Фрагмент книги Эбигейл Шрайер «Вредная терапия».
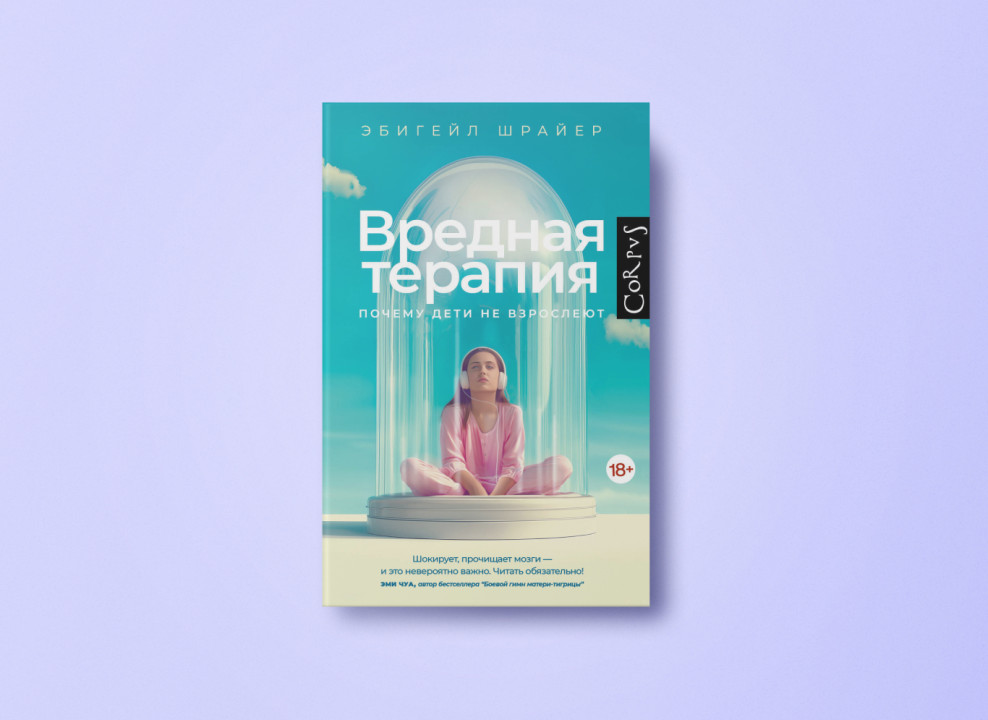
Эбигейл Шрайер в книге «Вредная терапия. Почему дети не взрослеют» (Corpus) разбирает, как индустрия подростковой психотерапии перестраивает школу, семейное воспитание и наш язык разговора с детьми, и задает главный вопрос: почему при беспрецедентной доступности помощи подростки становятся тревожнее и беспомощнее — и что делают не так родители, учителя и система. Основано на сотнях интервью с подростками, их родителями, педагогами и специалистами.
Автор — американская журналистка и писательница, экс-колумнист The Wall Street Journal, выпускница Колумбийского колледжа и Оксфорда. НЭН публикует эксклюзивный фрагмент; книгу можно найти в книжных и на Московской международной книжной ярмарке, которая пройдет на ВДНХ с 3 по 7 сентября.
Этим летом мой сын вернулся из лагеря с больным животом, и я решила отвезти его в клинику педиатрической скорой помощи. Поскольку боль все никак не проходила, я решила отвезти его в клинику педиатрической скорой помощи. Осматривавший нас врач сказал, что аппендицит он исключает. «Наверное, просто обезвоживание», — таков был вердикт. Уходя, и прежде чем отпустить нас домой, врач попросил дождаться другого человека из медперсонала, которому нужно было задать нам несколько вопросов.
В кабинет деловито вошел крупный мужчина в черной больничной униформе, в руках он держал планшет для бумаг. «Если вы не против, нам нужно остаться наедине — я проведу небольшой психиатрический скрининг», — сказал он. Только пару секунд спустя до меня дошло, что этот мужчина хотел остаться наедине с моим сыном — и я ему мешала.
Я попросила посмотреть его анкету; она оказалась официальным бланком, выпущенным Национальным институтом психического здоровья — госучреждением федерального уровня. Ниже идет полный, без сокращений, список вопросов, которые этот медработник собирался задать моему двенадцатилетнему ребенку, оставшись с ним с глазу на глаз:
Когда медработник попросил меня покинуть помещение, с его стороны тут не было никакого самоуправства. Он действовал буквально по инструкции — «Инструкции для младшего медицинского персонала», которая предписывает довести до родителей следующий текст: «Этот опрос мы проводим в условиях конфиденциальности, поэтому я попрошу вас выйти на несколько минут. Если нам покажется, что благополучию вашего ребенка что-то угрожает, мы вам об этом сообщим».
Пока я везла сына домой из клиники, меня не отпускала мысль о возможности другого исхода. А что, если бы в этот раз мне отказала моя несговорчивость? Дети часто стараются угодить взрослым и отвечают то, что, им кажется, от них ожидают. Что, если бы мой сын, оставшись один на один с этим огромным мужиком, хоть раз ответил утвердительно — реагируя на посыл, который он мог почувствовать в этих вопросах? И что тогда — его не отпустили бы со мной из клиники?
А если бы это и правда был ребенок, которого посещали мрачные мысли? Неужели это лучший способ ему помочь: разлучить с родителями и поставить перед необходимостью отвечать на вопросы о самоубийстве, чем дальше, тем дотошнее?
Я привезла сына не на прием к психотерапевту. Я не записывала его на нейропсихологическое обследование. Я привезла его к педиатру из-за боли в животе. Не было никаких показаний, никаких даже поводов, чтобы подозревать, что он психически нездоров. Но медбрата это не смутило. Он знал, что никаких поводов ему не требуется.
Мы, родители, стали так нервно, так сверхнастороженно — почти одержимо — относиться к психическому состоянию своих детей, что теперь то и дело позволяем всякого рода специалистам в этой области выставлять нас за дверь. («Мы вам об этом сообщим».) Стремясь воспитать хорошо адаптированных детей, мы десятилетиями слушались их советов. Возможно, это была гипертрофированная реакция на наших собственных родителей, которые исходили из противоположного — что уж если с кем и советоваться о том, как вырастить нормального ребенка, то в последнюю очередь с психологами.
Когда мы с братом были маленькими, нас спокойно могли отшлепать. Редко кто интересовался нашими чувствами, когда в семье принимались решения, определявшие нашу жизнь, — в какой школе мы будем учиться, будем ли мы ходить в синагогу по большим праздникам, какая одежда подобает тому или иному месту и случаю. Если нам не особенно нравилось то, что готовили на ужин, никто не предлагал нам альтернативного меню. Если мы и были обделены драгоценным правом самовыражаться — якобы необходимой ребенку возможностью опытным путем искать свою нераскрывшуюся идентичность, — мы с братом об этом просто не догадывались. Еще долгие и долгие годы никому из наших сверстников не пришло бы в голову начинать относиться к этим совершенно заурядным моментам в жизни ребенка в восьмидесятые как к источнику психотравмы.

Но ко времени, когда я и миллионы моих сверстников и сверстниц стали взрослыми, для нас наступила пора терапии. Мы начали копаться в своем детстве и все более умело выявлять у своих родителей черты эмоциональной недоразвитости. Эмоционально недоразвитые родители ожидали слишком многого, слушали слишком мало, были не способны разглядеть потаенную боль своего ребенка. Эмоционально недоразвитые родители плодили эмоционально травмированных детей.
Мы никогда не сомневались, что у нас тоже будут дети. Мы обещали себе, что, став родителями, будем вести себя грамотнее с психологической точки зрения. Мы готовились лучше слушать, больше спрашивать, следить за настроением своих детей, брать в расчет их мнение при принятии семейных решений и, насколько возможно, предвосхищать моменты, когда им бывает плохо. Да, мы будем дорожить нашими отношениями. Мы сломаем иерархический барьер между родителями и детьми, воздвигнутый прошлыми поколениями, — вместо этого мы будем играть за одну команду, мы будем делиться опытом, мы будем дружить.
Но самое главное — мы хотели вырастить «счастливых детей». Мы положились в этом на экспертов по психологии воспитания. Мы запоем читали их бестселлеры, где по полочкам раскладывалось, как нам следует обучать собственных детей, как корректировать их поведение и даже как с ними разговаривать.
Послушные мнению экспертов, мы усвоили терапевтический подход к воспитанию. В общении с детьми мы научились сопровождать каждое правило или просьбу устным обоснованием. Мы никогда и ни в коем случае их не шлепали. Мы в совершенстве овладели приемом «тайм-аута» и подробно разъясняли причины каждого наказания (переименованного в «последствия твоего поведения» — чтобы ребенок не чувствовал, что его «стыдят», и заодно чтобы мы сами не чувствовали себя такими тиранами). Правильное воспитание стало функцией с единственным показателем: насколько хорошо нашему ребенку в любой момент времени. Идеальное детство означало отсутствие боли, дискомфорта, ссор, неудач — и, конечно же, любого намека на «травму».
Но чем пристальнее мы следили за эмоциями наших детей, тем труднее нам было переносить неизбежные вспышки их недовольства. Чем внимательнее мы к ним присматривались, тем более явными становились их отклонения от бесконечного ряда заданных ориентиров — в учебе, в речи, в социальной и эмоциональной сфере. Каждое отклонение теперь ощущалось как катастрофа.
Мы срочно отправили наших чад к тем же самым знатокам детской психики, советами которых мы руководствовались с самого начала, — только теперь для тестирования, диагностики, консультирования и лечения. Нам было необходимо, чтобы и наш ребенок, и все вокруг знали: он не застенчивый, у него «социальное тревожное расстройство» или «социофобия». Он не хулиган, у него «вызывающее оппозиционное расстройство». Он не мешает другим заниматься, у него «СДВГ». В этом не виноваты ни мы, ни ребенок. Мы изо всех сил боролись с негативным ореолом, окружавшим эти диагнозы, и в конце концов победили. Наших детей стали награждать ими все чаще и чаще.
За время, пока я писала «Необратимый ущерб», свою предыдущую книгу, и за годы после ее публикации мне удалось побеседовать с сотнями американских родителей. Чем дальше, тем яснее я осознавала, насколько вездесущей — благодаря психотерапевтам и тем, кто замещает их в школе, — стала терапия в жизни наших детей. Насколько безоговорочно родители полагаются на терапевтов и терапевтические методы, решая детские проблемы. И насколько часто диагноз специалиста меняет самовосприятие ребенка.
Про школьное образование следует сказать особо: здесь терапевтический подход был встречен просто-таки с распростертыми объятиями. Школы объявили себя нашими «партнерами» по воспитанию и увеличили штаты сотрудников, занимающихся психическим благополучием детей: психологов, консультантов, социальных работников стало еще больше. При новом режиме на место наказаниям и поощрениям пришли диагнозы и льготы для диагностированных. У детей стали формировать систематический навык отслеживания и вербализации неприятных эмоций. Педагогов приучали видеть в «травме» главный источник плохого поведения и неуспеваемости.
Эти усилия не ставили своей целью получить на выходе сверхуспешных молодых людей. Но миллионы родителей уверовали в то, что именно таким путем выращиваются самые счастливые и адаптированные дети. И что же — при масштабнейшей за всю историю поддержке со стороны психологов и их коллег мы вырастили самое одинокое, тревожное, угнетенное, безрадостное, беспомощное и запуганное поколение. Почему же так получилось?

Почему первое поколение, избавившее детей от физических наказаний, произвело на свет первое поколение, декларирующее, что оно не желает иметь собственных детей? Почему те, кого воспитывали так мягко и либерально, сделались убежденными в том, что их здоровье подточено тяжелой детской психотравмой? Почему дети, получившие несравнимо большую дозу психотерапии, чем любое предыдущее поколение, погрузились теперь в бездну отчаяния?[6]
Источник их проблемы не сводится к инстаграму* или снапчату. Как сообщают нам их начальники и педагоги (и они сами, кстати, тоже), представители подрастающего поколения крайне плохо подготовлены к выполнению базовых задач, которые мы ассоциируем со взрослой жизнью: они не могут попросить поднять себе зарплату; им тяжело выйти на работу в моменты политических обострений в стране, им вообще тяжело регулярно ходить на работу; они затрудняются исполнять свои обязанности, не требуя длительных перерывов на поправку «психического здоровья».
Теперь не так редки случаи, когда мальчики шестнадцати–семнадцати лет откладывают получение водительских прав, объясняя это тем, что за рулем им «страшновато». Или когда третьекурсники, празднующие двадцать первый день рождения, приглашают на вечеринку свою маму. Риски и свободы, которые практически равнозначны со статусом взрослого человека, вызывают у них только настороженность.
Это одинокие существа. Им ничего не стоит зациклиться в душевном страдании, причины которого даже у их родителей вызывают некоторое недоумение. Родители бегут за ответом к специалистам, и когда их ребенок с неизбежностью получает диагноз, они хватаются за него с гордостью и облегчением: сложная жизнь сводится к одному пункту диагностического справочника.
Никакая отрасль не откажется от перспективы взрывного роста, и сообщество специалистов по расстройствам психики — не исключение. Ставя нормальных детей с нормальными проблемами на бесконечный конвейер, индустрия психического здоровья штампует пациентов быстрее, чем успевает их вылечить.
Все их коррекции и рекомендации якобы во благо наших детей в основном имели негативный эффект. Пропуская гамму индивидуальных различий сквозь черно-белый фильтр функции/дисфункции, специалисты по психическому здоровью приучили наших детей думать, что у них есть «нарушения». Действия таких экспертов всегда опираются на две предпосылки: каждому требуется терапия, и с каждым хотя бы отчасти «что-то не так».
Они говорят об «эмоциональной устойчивости», но подразумевают «принятие своей травмы». Они мечтают «дестигматизировать психические расстройства», и при этом разбрасываются диагнозами, как магическими средствами на все случаи жизни. Они говорят о «здоровье», хотя уже пустили под откос целое поколение — самое нездоровое поколение в новейшей истории.
Эксперты от психотерапии, с вдохновением пророков нового культа, побудили миллионы родителей уверовать в ущербность своих детей, пропитали их нервозной мнительностью и сомнением в своих силах. Они поставили учителей на службу делу терапевтического образования, смысл которого заключается в отношении к любому ребенку как к эмоциональному инвалиду. С их подачи педиатры теперь могут спрашивать восьмилетнего мальчика — которого не беспокоило ничего, кроме больного живота, — не бывает ли у него мыслей, что родителям было бы лучше, если бы его не было.
Столкнувшись с непобедимой самоуверенностью этих новых пророков, школы демонстрировали энтузиазм, педиатры — готовность, родители — покладистость.
Может быть, нам уже пора понемногу начинать давать отпор.
* — Деятельность компании Meta запрещена на территории РФ.