Какой была Шурочка Азарова из "Гусарской баллады" в реальной жизни
22 марта 2025, в возрасте 85 лет, умерла актриса Лариса Голубкина. Она прославилась на весь Советский Союз, исполнив роль Шурочки Азаровой в фильме «Гусарская баллада». Рассказываем настоящую историю жизни девицы-кавалериста.
В 1806 году 23-летняя дочь сарапульского городничего Надежда Дурова тайком ушла из дома, переоделась мужчиной и хитростью поступила в армию. Уже через год она участвовала в сражениях и участвовала успешно.
Как ей это удалось, и не менее важно — почему она решила пойти на это? Как развивалась ее карьера и жизнь после армии?
В документально-художественных «Записках» Надежда Дурова подробно и психологически точно описала свое детство и отношения с матерью. Именно здесь берет начало ее желание идти по жизни «мужским путем».
Отец Надежды, Андрей Васильевич Дуров, был военным — капитаном, командовавшим ротой. Когда его подразделение стояло в Украине, он познакомился с дочерью богатого и родовитого помещика Анастасией Александрович. Родители были против этого брака, считая Андрея Васильевича недостойной партией, но романтически настроенную и влюбленную Анастасию это не остановило. Она сбежала и тайно венчалась с Дуровым.
Но жизнь с военным невысокого чина быстро развеяла иллюзии молодой женщины. В родительской семье она была любимицей, жила в неге и довольстве. Теперь же она вынуждена была сопровождать мужа в постоянных походах и жить на одно его жалованье. Анастасия была разочарована и страдала. Угнетало ее и то, что отец проклял ее после побега и много лет отказывался простить.
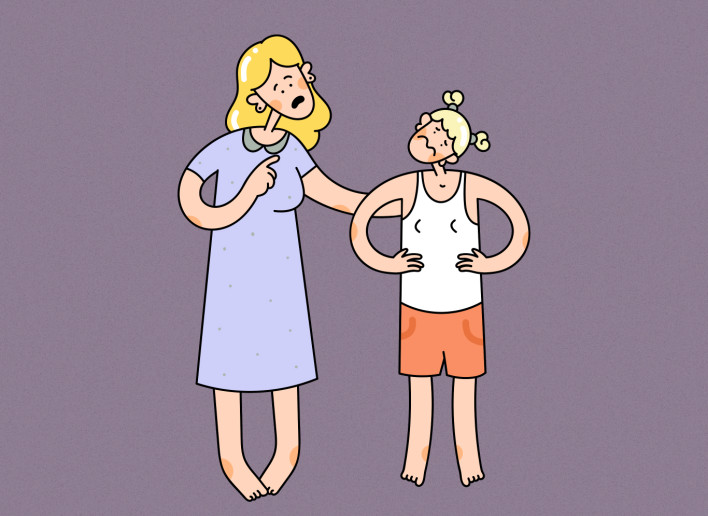
В 1783 году у 16-летней Анастасии Ивановны родилась дочь Надежда. Рады ей не были — и виной тому было множество факторов. Начнем с того, что роды оказались тяжелыми. «Муки, предшествовавшие моему рождению, удивили матушку самым неприятным образом; они не имели места в мечтах ее и произвели на нее первое невыгодное для меня впечатление», — писала Надежда в «Записках».
Более того, Анастасию Ивановну категорически не устроил пол ребенка. «Дитя принесли и положили ей на колени. Но увы! Это не сын, прекрасный, как амур! Это дочь, и дочь богатырь! Я была необыкновенной величины, имела густые черные волосы и громко кричала. Мать толкнула меня с коленей и отвернулась к стене», — продолжала Дурова. Сожаления о том, что первым родился не мальчик, Надежда потом нередко слышала и от отца.
Отдадим Анастасии Ивановне должное: она пыталась полюбить дочь. Так, приятельницы подсказали ей, что проникнуться симпатией к малышке может помочь грудное вскармливание. Но и это не сработало: сначала Надя отказывалась брать грудь («Видно, я чувствовала, что не любовь материнская дает мне пищу», — объясняла она), а потом, «видимо, управляемая судьбою, назначавшею мне солдатский мундир», «схватила вдруг грудь матери и изо всей силы стиснула ее деснами».
Анастасия Ивановна закричала, отдернула дочь от груди и бросила в руки стоявшей рядом женщины. «Отнесите, отнесите с глаз моих негодного ребенка и никогда не показывайте», — сказала мать. За малышкой стали присматривать горничная и крестьянка; в каждом походе у нее была новая кормилица.

Анастасия Ивановна не только пренебрегала дочерью, но и применяла насилие. Как-то, когда Надя громко и долго кричала на руках у горничной, мать, сидевшая с ними в карете, выхватила малышку и выбросила ее из окна. Девочку, «всю окровавленную и не подающую никакого знака жизни», подняли гусары и передали отцу. Андрей Васильевич, ради безопасности ребенка, буквально изолировал дочь от матери и отдал Надю на воспитание солдату. У него на попечении она находилась в течение нескольких лет. Солдат «по целым дням» носил ее на руках, водил в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махал саблей — в общем, знакомил с прелестями и особенностями армейской жизни.
В 1788 году Дуров вышел в отставку и получил должность городничего. Семья переселилась в Сарапул. Когда Наде исполнилось шесть, мать снова решила предпринять попытку заняться ее воспитанием, но и теперь потерпела неудачу — ей решительно не удавалось справиться с резвым нравом ребенка. «Всякий день я сердила ее странными выходками и рыцарским духом своим; я знала твердо все командные слова, любила до безумия лошадей, и когда матушка хотела заставить меня вязать шнурок, то я с плачем просила, чтобы она дала мне пистолет, как я говорила, пощелкать», — писала Дурова.
Нужно заметить, что Анастасия Ивановна в эти годы была в тяжелом психологическом состоянии. «С 1789 по 1796 год она имела пять беременностей и рожала каждый год-полтора. Дети ее умирали во младенчестве. Из пяти дочерей выжила лишь Клеопатра, рожденная в октябре 1791 года, и Евгения, рожденная в мае 1801 года. Частые роды подорвали ее здоровье», — сообщает Алла Бегунова, биограф Надежды Дуровой. Впоследствии физическое и психологическое состояние Анастасии Ивановны ухудшилось — когда Андрей Васильевич стал открыто ей изменять, она тяжело это переживала.
В дальнейшем она уже не пыталась полюбить дочь, но продолжала «ломать» ее, чтобы она была «нормальной девицей», без гусарских замашек. Однако солдатское воспитание уже дало свои неистребимые плоды. Кроме того, Надежда обладала природной склонностью к занятиям, которые в те времена считались исключительно мужскими, например к верховой езде. Днем Надежда, униженная и оскорбленная, проливала слезы над путающимся кружевом, а ночью предавалась своей страсти — каталась на лошади. Мать крайне досадовала и злилась, когда ее попытки изменить наклонности ребенка терпели неудачу, ругала и наказывала дочь, запирая ее дома.
В воспоминаниях Дуровой мы находим еще одну причину, по которой она так не хотела идти по женскому пути. Дело в том, что мать постоянно и прямолинейно внушала ей мысль о том, что быть женщиной — тяжкая участь.
«Может быть, я и забыла бы, наконец, все свои гусарские замашки и сделалась обыкновенною девицею, как и все, если б мать моя не представляла в самом безотрадном виде участь женщины, — отмечала Дурова в „Записках“. — Она говорила при мне в самых обидных выражениях о судьбе этого пола: женщина, по ее мнению, должна родиться, жить и умереть в рабстве; что вечная неволя, тягостная зависимость и всякого рода угнетение есть ее доля от колыбели до могилы; что она исполнена слабостей, лишена всех совершенств и не способна ни к чему; что, одним словом, женщина самое несчастное, самое ничтожное и самое презренное творение в свете!.. Голова моя шла кругом от этого описания; я решилась, хотя бы это стоило мне жизни, отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием божиим».

Однако рубить с плеча Дурова все же не стала. Уйти из-под влияния семьи она сначала решила более привычным для женщин того времени способом — выйти замуж. При этом ни в «Записках», ни в автобиографии она об этом не упоминала.
В 18 лет Дурова заключила брак с чиновником по фамилии Чернов и родила от него сына. Брак продлился около двух лет и был несчастливым. Считается, что их отношения Дурова описала в повести «Игра судьбы, или Противозаконная любовь» (первая проба пера Надежды). Вскоре она с ребенком вернулась к родителям.
Дурова продолжила обдумывать план, как «выйти из среды, назначенной природою и обычаями женскому полу», — и выбрала военную карьеру. Многое в этом мире ей было знакомо с детства, она любила лошадей и отличалась крепким физическим здоровьем.
Ночью 17 сентября 1806 года Надежда Дурова надела казачий костюм и ушла из дома. Есть предположение, что у нее был роман с кем-то из казаков. Вероятно, именно это легло в основу фабулы пьесы Александра Гладкова «Давным-давно» (1941) и снятого по ней фильма «Гусарская баллада» (1962).
Итак, Дурова пристала к казакам, представившись дворянином Александром Соколовым, который против воли родителей решил поступить на военную службу. Вместе с казаками она дошла до Гродно, где в 1807 году была зачислена рядовым в Коннопольский уланский полк. Сына она поместила в закрытое военно-учебное заведение. В том же году умерла ее мать, о чем Надежда узнала значительно позже.
Позднее Дурова с восторгом описывала свои ощущения тех дней: «Итак, я на воле! свободна! независима! Я взяла мне принадлежащее, мою свободу! драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку!.. Никогда не изгладится из памяти моей этот первый год вступления моего на военное поприще; этот год счастия, совершенной свободы, полной независимости, тем более драгоценных для меня, что я сама, одна, без пособий постороннего умела приобресть их». Первый год военной службы стал, кажется, самым счастливым временем в ее жизни. Военная муштра была тяжела, но Дуровой это было больше по душе, чем сидеть взаперти и вязать ненавистный шнурок.

Прежде чем отправиться с полком в поход, Надежда написала отцу, сообщив о своем решении и местонахождении. Андрей Васильевич дочь не поддержал. Он обратился к императору с просьбой вернуть Надежду в лоно семьи.
Узнав, что у него в армии служит переодетая в мужчину женщина, император Александр I велел немедленно доставить ее к нему. Соколову-Дурову разыскали и с особым курьером отправили в Петербург.
Встреча императора с Надеждой завершилась совсем не так, как ожидал ее отец. Она смогла убедить Александра I не отправлять ее домой. Более того, в знак особого расположения он приказал ей взять фамилию Александров (по его имени), наградил Георгиевским крестом за спасение офицера и распорядился зачислить ее в аристократический Мариупольский гусарский полк.
Чуть более трех лет Дурова прослужила в гусарах, затем была переведена в Литовский уланский полк. Во время Отечественной войны 1812 года она прошла весь путь от границы до Тарутина и при Бородино получила контузию.
В 1816 году Дурова-Александров вышла в отставку, прослужив в общей сложности десять лет. По всей видимости, прошение об отставке она подала на эмоциях, и на самом деле расставаться с военной карьерой не хотела. Но, когда она остыла и попыталась вернуться, «высочайшего соизволения» не получила.

Читателей могут волновать вполне резонные вопросы: неужели никто не догадывался, что Соколов (а позже Александров) — женщина? Как ей удалось поступить в армию?
Когда Дурова только присоединилась к казакам, она сильно выделялась на фоне остальных своей манерой поведения. «…Видя себя беспрестанно замечаемою, я стала часто приходить в замешательство, краснеть, избегать разговоров и уходить в поле на целый день даже и в дурную погоду…» — писала она. Но со временем Надежда усвоила их «приемы и способ изъясняться»: научилась курить трубку, стоять, уперев руки в бока, сидеть, закинув ногу на ногу, что для женщины светского общества тогда считалось совершенно неприличным.
При приеме в армию Дуровой удалось избежать медосвидетельствования. Солдаты спали, не снимая белья, завернувшись в шинели. Во время одного из походов она взяла на себя обязанность водить лошадей на водопой: река находилась за пределами лагеря, и у Надежды было достаточно времени, чтобы сменить белье и искупаться. В общем, хочешь, чтобы тебя принимали за мужчину, — умей выкручиваться.
Тем не менее люди обращали внимание на женственность Соколова и подтрунивали над ним: называли «улан-панна», «гусар-девка», шутили, что у него нет усов.
Биографы утверждают, что некоторые, видимо, догадывались о том, что Соколов-Александров — женщина, но это не становилось поводом для скандала. Хотя слухи и легенды о женщине в армии ходили самые разные.
При этом Дурова обладала железным здоровьем, которое позволяло ей переносить холод, голод и тяжелый физический труд. Она отличалась смелостью на поле боя и стойкостью, чем заслужила уважение своих однополчан. Особенности внешности уже не имели большого значения.
После отставки Дурова жила в Петербурге, у родных в Украине и в Сарапуле.
В 1836 году в пушкинском «Современнике» была опубликована часть ее записок (именно Пушкин назвал ее «кавалерист-девицей», что самой Дуровой совсем не понравилось). Позднее вышла книга полностью. На несколько лет Дурова посвятила себя творчеству: публиковала художественные произведения в журналах, также было выпущено ее собрание сочинений.
Литературная деятельность принесла Дуровой неплохой доход, благодаря которому она смогла купить домик в Елабуге. Там она проживала безвыездно с 1840-х годов. Дурова практически прекратила писать и старалась не вспоминать о своем военном прошлом и литературной славе. Она вела уединенный образ жизни, редко выезжая в гости к одной-двум семьям. На праздники навещала брата, служившего городничим в Елабуге. Поддерживала переписку — в том числе с сыном. «Однако никто из ее знакомых не помнит, чтобы в последние годы сын ее приезжал к ней», — отмечает Алла Бегунова.
В Елабуге Дурова держала лошадь, много занималась верховой ездой, поддерживала себя в хорошей физической форме: совершала длительные пешие прогулки, плавала.
До конца жизни она носила мужской костюм, пользовалась именем Александра Александрова и говорила о себе в мужском роде. Если к ней обращались как к женщине, могла резко отреагировать.
Умерла она в 1866 году в возрасте 83 лет. Дурова завещала, чтобы при отпевании ее называли Александром, но священник, хотя и был ее другом, не решился нарушить правила церкви и назвал ее рабой Божией Надеждой.
Хоронили Дурову с воинскими почестями. Перед гробом офицер нес на бархатной подушке ее Георгиевский крест. Она была первой и на тот момент единственной женщиной, удостоенной этой высокой награды.