Дорогие наши читатели! Спасибо, что пишете нам и доверяете свои истории. Одну из таких на днях нам прислала Ирина Фингерова, которая три года назад переехала из Одессы в Германию, где внезапно забеременела и стала матерью. Она решила поделиться своим эссе под названием «Манифест груди моей и трепещущему сердцу». В нем она рассказывает не только о беременности и родах, но и изменившемся отношении к телу, жизни и телу в жизни. Публикуем ее текст с трепетом и радостью. Надеемся, он вам понравится.
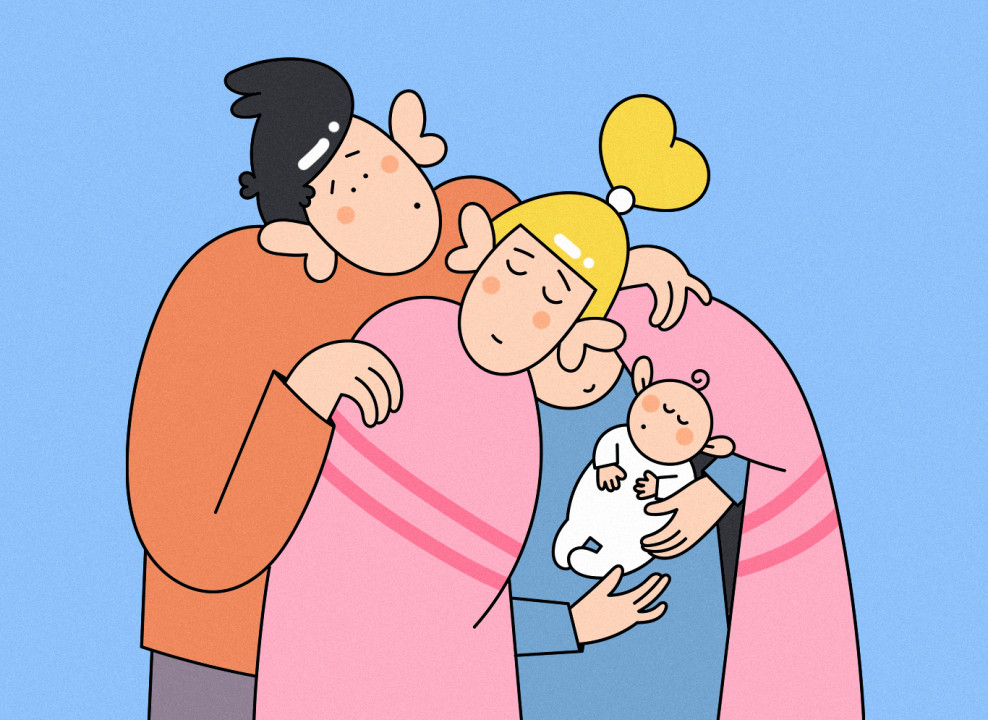
Несмотря на медицинское образование и четыре года в браке мы с мужем не знали, откуда берутся дети.
Втайне я надеялась, что он бесплодный, а я — фея. У фей не бывает детей, только мечты.
Поэтому мы толком не предохранялись.
Мы только переехали в Германию из Одессы, чтоб устроиться здесь врачами, нам предстояли экзамены, кризис идентичности, социальная смерть, тоска по гречке и по спонтанным встречам.
Мы жили в общежитие для беженцев, потому что это было дешево. На чердаке с маленьким окошком в небо. Соседи сверху шли пешком из Ирака. Соседи снизу готовили карри каждый вечер и не знали ни слова по-немецки. Они приехали из Пакистана, по вечерам я помогала им заполнять документы в центре занятости, чтоб они могли получать пособие.
Чтоб связаться с оператором, нужно было назвать имя и дату рождения. Мой уровень немецкого был достаточным, чтоб работать врачом, но чертов автоответчик не распознавал мой акцент. Я так и не смогла дозвониться.
Я купила тест на пятый день задержки. Мой муж, будем называть его П., готовил пасту с песто, я писала и молилась. Когда он поставил тарелки на стол, я сказала: «Либо беременность, либо хориокарцинома». Потом протянула ему тест. Он сказал: «Вот дура» и обнял меня.
В попытке быть оригинальной я часто порчу моменты, которые могли бы стать точкой опоры. Но мне было страшно как никогда в жизни.
У него уже была медицинская лицензия, но еще не было места работы. Я ходила на курсы.
Я чувствовала себя беременной иммигранткой из бедной страны, которая не может поддержать спонтанный смол-толк в трамвае.
Мы переехали с одного чердака на другой, в Нойштадт, поближе к центру Дрездена.
Квартиру снизу снимал человек-в-деловом-костюме. Он хотел с нами подружиться, предлагал вместе поехать за город собирать клубнику, интересовался нашими проблемами. Идеальный сосед, не считая одного нюанса. У него была параноидная шизофрения, и он до смерти боялся врачей. Когда сменилась погода, ремиссия сменилась обострением.
Он боялся, что мы хотим забрать его квартиру и решил нас выжить.
В Германии почти невозможно кого-то выселить, поэтому он использовал все возможные рычаги.
Моя подруга сдавала квартиру в субаренду, и он угрожал написать жалобу в налоговую, если мы не съедем до конца недели. А еще он выкинул наше мороженое из общего холодильника. Я смотрела в пустую морозилку и плакала.
Из-за того, что в Икее не было моих любимых хот-догов с солеными огурчиками, я проплакала два часа на очень удобном диване. И немного из-за того, что у нас не было на него денег. Как и на всю остальную мебель.
Кредит мы могли получить только после того как П. начнет работать, а квартиры сдавались пустыми, так что какое-то время мы спали на надувных матрасах.
Тогда я впервые поняла, что живу жизнь, а не пишу биографию.
Я была уже на седьмом месяце беременности, когда П. пришел ответ из отдела кадров маленькой больницы в 30 километрах от Дрездена.
Маленькой больницы в маленьком городе, в котором почти нет иностранцев. Таком маленьком, что я знаю наизусть меню во всех ресторанах (трех) и всех местных алкашей по имени.
П. начал работать в терапии.
У нас снова был диван, комната с большим окном, в которой я дописывала роман, соседи подарили нам герань и не расписывали стены подъезда кровью.
Перед родами рыжий доктор, похожий на пирата, протянул мне склянку с зельем. «Коктейль для схваток», — сказал он. Просекко и немного касторки. Я не поняла, флиртовал он со мной или у него просто дергался глаз. Под вечер меня так пронесло, что доктор перестал казаться мне милым. На следующий день мы заказали китайской еды, и у меня начались схватки.
Роды длились 19 часов. Я ходила с капельницей по коридору, а П. кормил меня M& M’s между схватками. Мне разрешили рожать в моей пижаме. Я так и не поняла, чего мне хотелось больше: сжечь ее или поставить в рамочку, так что я просто спрятала ее и забыла куда.
Сразу после родов нам принесли поднос с ужином. Поднос с плацентой лежал на соседнем столике.
Это было одно из самых наших романтичных свиданий, несмотря на то, что за полчаса до этого мне зашивали промежность.
Я была уверена, что умру во время родов, раз уж я не умерла в 17 от чахотки, как полагается любой приличной литературной деве.
Но я не умерла. Я просто очень изменилась.
Из человека стремящегося я превратилась в человека боящегося.
Я боялась, что я не полюблю свою дочку. Боялась, что стану токсичной матерью, боялась, что меня накроет постродовая депрессия и я выпрыгну из окна, боялась, что случится психоз и я придушу ее в попытке унять источник звука и немного поспать. Я боялась, сойти сума, зацепиться за мыслежвачку и упасть в бездну.
Я боялась оставаться с ней одна, такой маленькой, такой трепетной на целые сутки, пока у П. были его первые дежурства, в городе в котором у нас не было ни одного знакомого.
Я боялась, что жизнь никогда не будет прежней (и тут я оказалась права).
Я боялась, что мы с П. больше никогда не будем заниматься сексом.
Я боялась, что врачи пропустили остатки плаценты в полости матки и они там гниют (нелогично, нелогично, но когда это страх был логичным?).
Я боялась, что никогда не сдам экзамен, никогда не стану врачом, что мой роман никто не будет читать.
Я так боялась навредить ребенку, так не верила своему чутью, так убедила себя в идее, что я слишком творческая, рассеянная, неорганизованная, что обеспечила себе марафон друзей и родственников на первые полгода. Я даже готова была купить им билеты из Украины, лишь бы кто-то был рядом и смог вовремя заметить, что со мной что-то не так.
Но со мной все было так. Мне просто нужна была поддержка, много поддержки.
К тому моменту у меня был опыт организации международных фестивалей, я создала свой театр на ровном месте, издала несколько книг, закончила медицинский университет, но я была уверена, что не справлюсь с младенцем, у которого не получается отрыгнуть.
Я боялась, что я стану старой и некрасивой теткой.
Я боялась стать скучной, поэтому я фанатично слушала лекции по антропологии в два часа ночи, пока кормила дочку грудью.
Я боялась вдруг превратиться в мифического взрослого, который говорит «ипотека» чаще, чем «вино» и радуется жизни только по выходным.
Я вспомнила курс педиатрии и синдром внезапной младенческой смертности. Я вспомнила о том, что у моей мамы умер первый ребенок, еще совсем крошечный, и не смогла даже представить себе, как она это пережила.
Я вспомнила о том, какие мы хрупкие, как легко и быстро жизнь уходит из тела. И я почувствовала боль. И впервые поняла, что есть что-то, что пугает меня больше собственной смерти, больше всего на свете.
Почти до года я постоянно проверяла по ночам, дышит ли она. Я почувствовала себя вдруг слишком человечной. Моя фантазия о том, что я особенная, больше не спасала меня от боли.
С грудным вскармливанием не задалось с самого начала. Я вызвала грудного консультанта, потому что хотела быть хорошей матерью. А еще потому что мой папа сказал: «Мы, Фингеровы, не кормим грудью» как будто это было записано в семейном кодексе.
Она посоветовала девять раз в день стимулировать грудное вскармливание молокоотсосом и еще прикладывать к груди по требованию.
Я тратила 15 часов в день на производство и добычу молока.
Грудь налилась, на ней проступали маленькие синие венки, я чувствовала себя сексуальной. Грудь вытворяла странные штуки. Стоило мне только высунуть ее из-под платья и сунуть сосок в рот дочке, как вокруг появлялись толпы людей.
Однажды мы сидели возле школы. В воскресенье. Я не встретила ни одного прохожего, когда ехала туда с коляской. Город был мертв. Но как только я вытащила сиську, я услышала визг тормозов. Это приехал школьный автобус и на улицу высыпали старшеклассники.
Грудь компенсировала мне недостаток в публичных выступлениях.
И в мужском внимании. И я благодарна ей за это.
После родов я вдруг ощутила, что у меня есть вагина, что я не только личность, но еще и женщина. Я перестала кормить рано, где-то через полгода. Я почувствовала, что с меня хватит. Мы все равно докармливали смесью и мне хотелось вернуть ощущение того, что хотя бы тело — мое, раз мне не принадлежит мое время.
После того как молоко исчезло, грудь уменьшилась и обвисла. Одна.
Вторая осталась прекрасна. Какое-то время я занималась сексом в лифчике, какое-то время не занималась вообще. Я чувствовала, что во мне есть изъян.
И мне хотелось узнать, как на него реагируют мужчины, но в нашем городе в основном живут пенсионеры и школьники.
Когда я проходила практику у мужа в больнице, я принимала пациентку с циррозом печени. Я понимала, что ей осталось недолго и мы поговорили об ее отношении к смерти. Ей было 82, она сказала, что ей страшно, но она довольна тем, как прожила свою жизнь и тем, что она осталась в ясном уме.
Иногда на нашу самооценку влияют самые бестактные комплименты на свете. Спустя полгода я устроилась в неврологию и, когда страх перед дежурствам немного унялся, заметила что в комнате дежурного врача стоит зеркало в полный рост. Я разделась и рассмотрела себя. Левая грудь не изменилась. Огромная ореола и обвисшая кожа. Зазвонил телефон. У кого-то упала сатурация. Я с облегчением оделась.
Когда наконец-то отменили локдаун и открыли границы, я поехала в Одессу. Лето в Одессе — время для чудес.
Подруга заказала себе кофе с собой и мы прошлись к морю. Я залюбовалась тем, как ее синие волосы блестят на солнце.
«Может, сделай пластику, — сказала она, — это же твое тело», — когда я пошутила про обвисшую грудь.
Почти с мазохистким удовольствием я шутила о том, как тяжело мне дались последние три года и все ждала, когда уже станет смешно.
«Не хочу, — неожиданно для себя самой сказала я, — эта грудь постаралась для меня».
На следующий день я договорилась с фотографом насчет ню-фотосессии.
Я стеснялась и поэтому разделась сразу, как будто мне все равно.
Студия была на крыше «Пассажа» и сквозь белые занавески струился золотой свет. Из зеркала на меня смотрела неидеальная женщина. Я больше не была астеничным подростком, я не была милой рыжей девочкой, к образу которой я так привыкла.
Я рассматривала свои округлые бедра, целлюлит на заднице, большие, как будто разбухшие от воды соски, потемневшие ореолы, рыхловатый живот, тонкие запястья и тонкие щиколотки, пухлые губы и живые, полные сомнений глаза. Из зеркала на меня смотрела неидеальная женщина. И я ее захотела.
Еще почитать по теме
Ученые выяснили: родительство не делает вас счастливее, но приносит кое-что другое