В 23 года Юля родила сына, которому вскоре диагностировали РАС (расстройство аутистического спектра, аутизм). Пережила развод, эмиграцию и возвращение в Россию, мысленно попрощалась с карьерой. В 29 — стала главным редактором Forbes Life и Forbes Woman. НЭН поговорил с Юлей о том, почему женщинам так трудно считать себя успешными, что происходит с инклюзией в России и как «теория гвоздей» помогает ей держаться даже в самое трудное время.
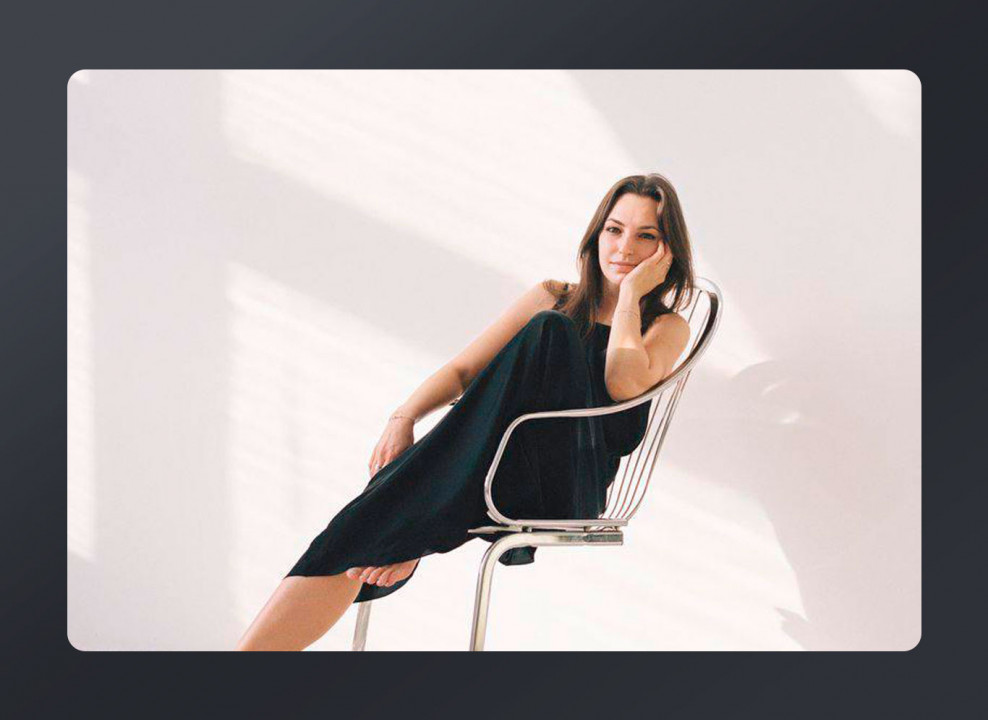
Юля Варшавская — попечительница женской футбольной школы GirlPower_FC и фонда по развитию инклюзии АНО БО «Журавлик». А еще — ведущая подкаста «Тише, мама работает!», посвященного материнству в эпоху гендерного равенства.
Я всегда хотела карьеру в журналистике, была мотивированным студентом — из тех, которые наивно идут на журфак с горящими глазами. Когда меня, семнадцатилетнюю, на творческом конкурсе (один из этапов поступления на факультет журналистики МГУ, — прим. НЭН) спрашивали, как я вижу пик своей журналистской карьеры, я отвечала, что мечтаю быть руководителем журнала для женщин, но не глянцевого, а именно интеллектуального. Здесь мы и оказались.
На самом деле, материнство, рождение Давида и тот факт, что он родился с особенностями развития, застопорили историю с моей карьерой. Года четыре я сидела в декрете, хоть и не переставала заниматься фрилансом, что-то делать. Но между строительством карьеры и просто работой есть большая разница. Я, конечно, очень старалась остаться в профессии, но время, которое нужно было посвящать Давиду и специалистам, помогавшим ему социализироваться и комфортно жить с РАС, занимало часы, дни, недели и годы. А еще у меня была послеродовая депрессия, которую я не сразу определила — поняла это гораздо позже.
В общем, через пару лет материнства я была абсолютно уверена, что уже никогда не буду журналистом — и почти попрощалась со своей профессией. Тем более, в то время мы уехали жить в Лондон, где шансов на журналистскую работу у меня было очень мало. Поэтому там я собиралась учиться на психолога.
На тот момент я больше ничего на том же уровне так же качественно делать не умела. У меня не было никаких других инструментов для того, чтобы работать — а не работать я не могу. Не хочу называть это силой, потому что тогда это превратится в ответ на вопрос в духе «как вы стали таким великим?». Я бы назвала это свойством моей психики. Я такой «истероидный невротик».
В ситуации, где я не работаю и не вымещаю свою бесконечную энергию, я становлюсь совершенно разрушающей. Вся моя энергия становится абсолютным токсом, который уничтожает меня, моих близких и все вокруг.
Годы, которые я не работала, были самыми страшными в моей жизни — просто черная бесконечная дыра. Работая хоть как-то, я пыталась спасти себя в тех сложных жизненных обстоятельствах, в которых на тот момент находилась.
Одновременно с тем, что я узнала, что у Давида РАС, сильно заболел мой папа. К счастью, он выздоровел, но это была тяжелая болезнь. Все эти факторы не способствовали тому, чтобы я была счастлива. Но при этом же тогда и появилась моя первая серьезная работа, и я сразу в нее ушла. И сразу стало легче.
Все это — сочетание темперамента, определенных навыков, которые у меня есть и применяя которые я чувствую себя полноценной, счастливой, компетентной, социально успешной. Можно ли называть это внутренней силой? Не мне об этом говорить.
Катастрофическая проблема женщин в России — в том, что они абсолютно не умеют себя хвалить. Существуют исследования, которые подтверждают: женщина оценивает себя на 70 процентов, когда мужчина при тех же скиллах, опыте и компетенции оценивает себя на 120.
Женщины не могут, не умеют говорить «я это сделала», опираясь на объективные факторы. Особенно женщины в нашей культуре, где со всех сторон на них оказывают давление на тему того, какими они должны быть: конвенционально красивыми, худыми, спортивными, успешными в личной жизни.
При этом никто на самом деле не знает, что такое успех, а количество взаимоисключающих критериев этого самого успеха просто колоссальное. Это касается всех сфер жизни: материнства, работы, отношений. В связи с этим очень сложно сказать: «Я классная!». Но очень круто и важно опираться на объективные вещи: что ты, именно ты, сделала классно? Про себя я такие вещи знаю, и это очень помогло мне выжить в первый год в роли главного редактора.
Тот факт, что в 29 лет без опыта в деловой журналистике я стала главным редактором двух приложений Forbes — это огромный шанс и огромный аванс, который мне дали. И дали его к большому для меня удивлению.
Первое время я часто слышала: «Кто тебя посадил туда, девочка?» Да в том-то весь ужас, что никто не посадил! Если бы кто-то посадил, я тогда сидела бы спокойно. А мне нужно было доказать, — себе, начальству, читателям — что это не было ошибкой.
Степень давления — изнутри и снаружи — была колоссальная. И только объективные факты помогали мне ставить эти самые маячки и присваивать достижения. В первый год аудитория Forbes Life выросла в несколько раз. Появились другие герои, значительно выросли соцсети, приходили отзывы от читателей — это те вещи, на которые можно было опираться и вставать.
Мне кажется, что игра в замену слов — это блеф. Играть в «женское лидерство», когда это на самом деле феминизм — подменять прямую речь на косвенную. Тот факт, что сегодня мы можем сидеть на любой конференции и на любом уровне обсуждать женское лидерство, карьеру, баланс карьеры и материнства — это все результат истории феминизма.
Поэтому мне, как человеку максимально прямолинейному, не хотелось в это играть. Я ходила на все эти форумы, встречи, клубы и думала: «В смысле? Давайте говорить прямым текстом!» Есть феминизм — в него входят и женское лидерство, и гендерное равенство.
У нас просто все очень боятся этого слова, и мне хотелось максимально нежно, через очень-очень тонкую работу, рассказать, что это одно и то же, что это про созидание. Что это борьба с неравенством, а равенство — это когда и мужчинам и женщинам хорошо.
Кроме того, и гендерное равенство, и женское лидерство невозможно отделить ни от экономики, ни от политики. В основе гендерного равенства лежат безопасность и свобода. А безопасность связана с борьбой с насилием и харассментом. Безопасность связана с экономикой: у тебя должна быть финансовая подушка безопасности — мы же прекрасно знаем, какой у нас в России миллиардный долг по алиментам. Мы прекрасно знаем, какое количество женщин оказываются в ситуации, когда у них вообще нет никаких накоплений, и они остаются без жилья, без еды.
Я брала интервью у фонда «Ночлежка», и мне рассказали, что домашнее насилие — основная причина попадания женщин на улицу.
К тому времени, когда я пришла в Forbes Woman, почва для этого разговора уже была готова — надо было найти подходящий язык. Мне хотелось найти язык, который будет понятен наибольшему количеству людей, потому что разговаривать о феминизме в кулуарах понимающих людей я не согласна. При этом размахивать флагом и призывать всех к чему-то мне тоже не хочется — я вообще не знаю, как люди должны жить. Но я точно знаю, что мне хочется, чтобы женщины знали свои возможности. И мне кажется, нам удалось начать этот социальный, экономический разговор про гендерное равенство и про женщин.

Интересное по теме
5 очевидных причин, по которым нам и нашим детям нужен феминизм
Когда я только пришла, меня спросили: твоя Forbes Woman — она кто? Я села и задумалась о женщинах, которые меня окружают. А меня в основном окружают женщины, которые работают в НКО — благотворительность уже давно равнозначно важная часть моей жизни, как и журналистика. И тогда я сказала: это женщина, которая, изменив свою жизнь, меняет мир вокруг. В этом тезисе обе части очень важны.
Когда я говорю про свободу и безопасность, я говорю про сверхценности для себя. И, конечно, это те вещи, которых в какой-то момент жизни была лишена я. Ты просто не хочешь, чтобы другие женщины попадали в ситуации, где тебе было плохо.
Мне вообще кажется, наш опыт довольно универсален. И тот опыт, который был в моей жизни — и материнство, и материнство после развода, и сам развод, и построение карьеры — это очень универсальные вещи для миллионов женщин.
Я взяла на себя смелость подумать, что, если я попробую работать с этими проблемами в широком смысле, это может помочь каким-то людям. Поэтому на большей части обложек наших номеров — женщины, которые точно знают, что такое социальная ответственность.
К тому времени и слово «феминизм» перестало быть маргинальным. При этом в тех местах, где надо говорить «гендерное равенство», я говорю «гендерное равенство». Только не «женское лидерство» — я его запретила, его просто не существует. Это как сахарозаменитель.
Феминизм — про свободу. Чем меньше будет свобод, тем меньше будет свободы женщин. Я думаю, что тема женского лидерства никуда не денется — наоборот, сейчас это одна из самых безопасных тем, и все страшно любят про это говорить. Конечно, феминизм в западном понимании — про свободу, в том числе, и про сексуальную свободу — сейчас никому до этого дела нет.
Что касается тезиса, что «все было зря» — безусловно, это, наверное, самое тяжелое мое переживание последних месяцев. Сейчас я могу сказать, что я с этим начала постепенно справляться. Месяц-полтора я была в состоянии полного обесценивания своей работы.
К февралю мы пришли с такими масштабами планов на этот год, что я ощущала себя Кейт Уинслет, плывущей на «Титанике»: передо мной был океан всего, что я делаю для женщин, и это поддерживалось всем бизнесом. И вот я такая плыву, расставив руки, — и просто врезаюсь лицом в льдину. Долбанулась со всей силы. Но я такого типа человек, что не могу быть долго в таком состоянии.
В конце мая меня позвали читать лекцию по гендерному равенству во Владимир. Это был первый раз, когда я за все это время согласилась что-то говорить, потому что мне было просто по-человечески интересно посмотреть на людей, которым в мае 2022 года во Владимире интересно слушать про эмансипацию.
До этого я просто не знала, как об этом говорить — какое гендерное равенство, когда все рушится?
Готовясь к этой лекции, я листала нашу рубрику «Forbes Woman в истории», где мы рассказываем про фантастических женщин, которые в разное время — от Кореи XVII века до США 90-х — сделали со своей жизнью и жизнью других женщин что-то, что изменило течение этого времени. Я поняла: когда я думаю, что разрушилось все, что я строила, — я слишком много на себя беру. Я очень сильно переоцениваю свое место в этом огромном полуторавековом движении.
И с другой стороны, обесцениваю не себя, на самом деле, а то, что стоит за моей спиной, за нашей спиной. Эти женщины преодолевали войны, катастрофы, боролись за новое законодательство, подвергали себя опасности, делали научные открытия. Они все — стоят за нами. И мы — только часть этой большой истории. И нам прямо сейчас нужно внести в нее свой посильный вклад, а не сидеть и жаловаться: «Ой, я так работала, а теперь все пропало!». И пока у меня есть возможность делать, говорить, просвещать — значит, я буду это делать. Снижение градуса своей значимости в истории женской повестки очень мне помогло не опустить руки.
С ним большая проблема в тяжелые времена — теперь вообще не понимаешь, как можно шутить, да и не шутится, если честно. По жизни я очень саркастичный человек, и в этом смысле со мной бывает тяжело работать юным сотрудникам. Они живут уже в том мире, в котором нельзя говорить жестко и с сарказмом. Однажды девочка, которая очень быстро от нас ушла, сказала мне, что так нельзя писать — это токсично. А я еще и матерюсь через слово — в общем, полный набор.
Хотя все чаще я себя одергиваю: так нельзя. Я же за все «светлое и прекрасное», за новую этику, а сама — «токсичный руководитель». Но вообще-то я сразу предупреждаю: «Ребята, ничего личного, я просто так разговариваю». Я из медицинской семьи — у нас все в семье так общаются. Когда папа хочет мне сказать, что он меня любит, он говорит какую-нибудь колкость. Но я очень стараюсь над собой работать. Я знаю, что очень прямолинейная, и этот прямолинейный жесткий юмор сложно переваривается. Мой сын иногда меня спрашивает: «Это ты сейчас пошутила?»
Я абсолютно нежнейшая, сумасшедшая еврейская мама. Я хожу перед ним на цыпочках. Называю его только «любимый». При этом он чувствует, что я внутри жесткая: если я сказала, что надо делать, он делает. Но я даже не знаю, как с ним быть строгой — он такой волшебный, трогательный, нежный. Я каждый день целую его в нос и щеки 350 раз (пользуюсь тем, что пока он разрешает).
Я очень гневная: могу часами ходить по квартире и разговаривать с собой. Надо понимать, что еще я шесть раз в неделю занимаюсь спортом — три раза с тренером и еще три раза в неделю хожу в бассейн. Так как я очень энергичная, мне нужны места, где я успокоюсь. Для этого я прихожу в Лужники, где Давид занимается футболом в TagSport, и все на работе знают — для меня это святое. Два раза в неделю я иду с ребенком на футбол: он занимается, а я полтора часа сижу и смотрю на поле. Это что-то невероятно для меня важное: бегающие по траве, играющие в футбол дети — это то, что меня устаканивает. Тем более, там же бегают мои девочки-футболистки из GirlPower, а этот проект за последние пару лет стал моей главной отдушиной вне работы.
Мне кажется, что сегодня женский футбол — это лакмусовая бумажка того, что происходит с гендерным равенством: девочка никому не должна хотеть играть в футбол, но если она хочет, у нее должны быть все возможности это делать.
Плюс, если я чувствую, что сильно устаю, мне важно выключить себя, лишить себя внутреннего контента. Например, на целый день, на восемь часов, сесть и смотреть сериал. Нон-стоп. Тогда я заполняю себя другой информацией, не связанной со мной.
Важнейшая моя опора — это мои друзья (им можно, кстати, позвонить, если я в гневе). У меня вообще есть «теория гвоздей»: когда ты опираешься на один гвоздь, ты протыкаешь ногу, а когда на много — ты можешь устоять. Женщинам столетиями говорили, что женской дружбы не бывает, что надо найти мужчину, который будет о тебе заботиться. Мне кажется, это ненадежная схема. Гораздо устойчивее иметь такой хороший круг близких (туда может входить и мужчина, и подруги, и друзья, и семья, и знакомые), с которыми вы держите друг друга на плаву в разные периоды жизни.
Ну и, конечно, я бесконечно донимаю любовью кошку Сару — звезду запрещенных и экстремистских социальных сетей. У меня даже на работе есть присказка, когда я начинаю бурчать, «Юля, иди уже погладь кошку».
Это большая иллюзия, что я много пишу о личном — и уж точно я не делаю этого с тех пор, как стала хоть чуть-чуть публичным человеком. Да, бывают посты, когда я что-то говорю про личное. Почему я это делаю? В них я описываю опыт, который кажется мне универсальным.
Наиболее доступная и понятная форма рассказа о чем-то — через личную историю. Невозможно написать абстрактно о том, что женщина, входящая в нормы индекса массы тела, может испытывать расстройство пищевого поведения и ненавидеть себя. Абстрактный пост вызовет только хейт и не вызовет никакого узнавания. Пост о том, что думаю и чувствую я, и объяснения, почему нужна поддержка и психологическая помощь, как на это нужно реагировать, — к нему не было ни одного негативного комментария.
Я знаю, что огромное количество женщин испытывают то же самое, но у них нет такой публичности и такой смелости, чтобы про это написать. У меня это есть, и я беру на себя эту смелость.
Я пишу — и получаю отклики от десятков женщин, которые прочитали это и почувствовали: они не одни, про это нужно говорить, этого не нужно стесняться.
У меня таких кейсов было довольно много, потому что я совсем не стесняюсь своих слабостей, своих комплексов.
Я думаю, это обратная сторона моей уверенности: я с собой ок, с плохим и хорошим. Даже если я пишу, что иногда ненавижу свое тело в зеркале, в целом на мое отношение к себе это никак не влияет. Поэтому, наверное, я могу про себя так написать. Чаще всего я пишу, когда мне уже не больно — я уже прожила это. Для меня это еще и очень терапевтичная вещь — такая форма проживания чего-то тяжелого. Я этот пост написала — и у меня уже три недели не было приступов.
При этом действительно бывают смешные случаи, это какая-то обратная сторона такой «публичности». Например, мне часто пишут какие-то люди, иногда подходят ко мне и начинают разговаривать, как будто мы вчера ужинали дома вместе. А я их даже не знаю! Им правда кажется, что они что-то про меня знают, но это что-то знают и остальные люди в соцсетях. Я действительно говорю иногда довольно откровенные вещи, но в этом нет ничего личного — это переработанный в текст опыт.
Было два случая, когда мои личные интервью, максимально невинные истории, неожиданно вызвали какие-то хейтерские обсуждения — и моим родителям было очень неприятно. И мне было больно от того, что им неприятно. Я стала к этому трепетно относиться — минимизирую любые частные рассказы, включающие моих близких.
Жизнь с ребенком с РАС в России стоит десятки, сотни тысяч рублей в месяц. Я не знаю, как справляются родители с небольшим доходом, потому что практически ничего бесплатного и по-настоящему хорошего для детей с РАС в образовании — как в основном, так и в дополнительном — нет. Это главные статьи всех моих расходов.
Поэтому когда меня спрашивают, почему я так много работаю, я всегда отвечаю: «У меня есть выбор?». Именно поэтому я — попечитель АНО БО «Журавлик», где совершенно великие женщины двигают тему инклюзии, которая и в мирные времена шла тяжело, а сейчас совсем туго. Если бы не они, нам с Давидом было бы гораздо тяжелее.

Интересное по теме
«Мой муж уйдет в декретный отпуск на месяц». Ольга Журавская — о материнстве в Америке, проекте «Травли.нет» и благотворительности
Как мама ребенка с РАС, ты просто не знаешь, чего тебе ожидать. Во-первых когда мы об этом узнали, уровень информированности был абсолютно другой. Мне просто повезло, что к моменту, когда у меня родился ребенок, я уже очень много знала про аутизм. С 17 лет я работала в журнале Psychologies, и это было первое издание в России, которое вообще писало про аутизм. Тогда же я познакомилась с потрясающим детским семейным психологом Галией Нигметжановой и очень заинтересовалась этой темой. К моменту, когда у меня родился ребенок и ему исполнилось полтора-два года, я уже знала какие-то вещи, я видела их в нем. А еще он ходил в детский сад к этому психологу, и она просто отвела меня в сторону и сказала: «Юля, у него аутизм».
Тут надо сказать, что РАС — это спектр, и в этом спектре может быть все: от того, что ребенок вырастет невербальным, до того, что ты ничего не заметишь и это будет просто какой-то незначительной особенностью. Аутизм — это всегда процесс, процесс на всю жизнь.
Ты живешь в этом мире, двигаешься постепенно, и каждый день, каждый месяц у тебя что-то меняется. Каждый день ты сталкиваешься с новыми вещами, которые учишься решать.
Самое страшное с нами все-таки не случилось, и это колоссальная работа всей нашей семьи. Невероятное спасибо моим родителям и, конечно, папе Давида — он лучший папа для своего сына. Мы уже несколько лет в разводе, но мой сын подтвердил знаменитую фразу о том, что счастливые дети растут у счастливых родителей.
Я думаю, это был очень важный этап в его и в моем развитии. Было страшно принимать решение о расставании, смотреть, как происходит регресс — месяца на два-три он все-таки случился, хотя мы сделали все, чтобы оградить сына от последствий. Потом произошел резкий скачок. Сейчас можно сказать: Давида настолько любят обе стороны, что он очень довольный по жизни мальчик.

Интересное по теме
«Этот жест, которым Дуня попросила еду, — я знала о нем из статей по психиатрии»: история мамы, которая раньше всех поняла, что у ее ребенка аутизм
Инклюзия сейчас — это хаос. Инклюзия в образовании не работает, потому что не работает система образования в целом. Для того, чтобы она работала, должна быть очень крутая система поддержки специалистов. А у нас до инклюзии еще десятки проблем, которые надо решить.
Кроме того, правильная система инклюзии стоит очень много денег. Частные школы часто делают вид, что они инклюзивные, но большая часть из них борются за эффективность, и особые дети им не нужны.
Все, что я вижу, это полный бардак, нет никакой системы, нет кадров.
В марте Давиду стало очень тяжело, все происходящее отразилось и на нем тоже. Мне пришлось срочно искать ему тьютора, и я еле его нашла — пришлось звонить Маше Грековой (основательнице инклюзивного кафе «Огурцы» и инклюзивных мастерских «Простые вещи», — прим. НЭН) в Петербург, чтобы она помогла мне найти тьютора в Москве.
Это при том, что я нахожусь в очень привилегированном положении: у меня есть хорошая работа, друзья, в том числе — в профильных НКО. Что надо будет сделать маме из Волгограда, чтобы найти и оплатить тьютора, — я не могу себе этого представить. И это вещь, с которой надо работать нам как обществу.
Я хочу, чтобы он мог делать все, что хочет. Он хочет стать ученым — пусть он станет ученым. Хочет тусить со своими друзьями и чувствовать себя клевым мальчишкой, ходить в актерскую студию, в бассейн — пусть делает все, что делает его счастливым, от чего ему классно. Я не хочу, чтобы он вырос с ощущением, что он какой-то «не такой». Потому что особенный, особый — это же классный, а не наоборот. Но у нас в обществе часто думают иначе.
Сейчас он настолько скомпенсирован, что вопрос с дальнейшим образованием и возможностью пойти в университет уже не стоит. То, что ему в ближайшие годы нужна будет помощь, да, я к этому готова. Я специально все эти годы создаю для него мир, где все классные, понимающие, любящие, толерантные. И я совершенно не хочу, чтобы он сталкивался с другим миром, который почему-то называют «реальным». Реальный мир и должен быть таким, чтобы там были толерантные, эмпатичные, социально ответственные люди. Если он проживет эту жизнь в таком мире, где его все принимают и где он сможет реализовать все свои мечты, я буду счастлива.
Еще почитать по теме
«Человек, который не разговаривает, он как-то по-своему видит этот мир»: как взрослеют дети с аутизмом в России