Лия Хабарова
Клинический психолог
Они не едят, не пьют, не чувствуют боли и холода, просто ждут, когда жизнь снова станет безопасной.
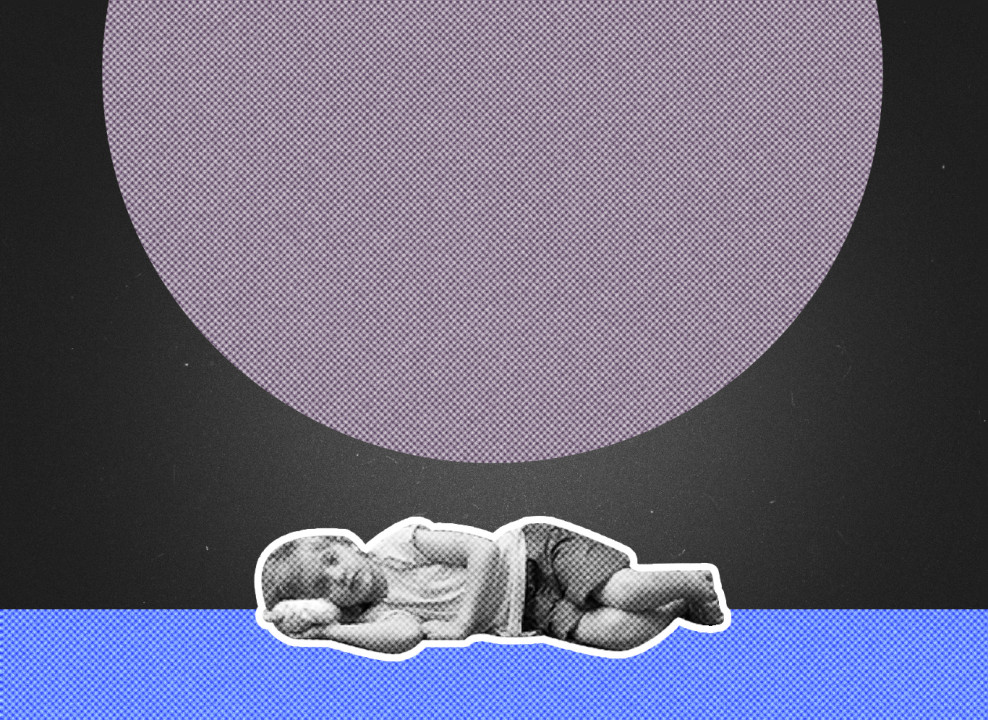
Маленькая девочка спит, подложив ладошку под голову. Глаза закрыты, дыхание ровное, кудрявые светлые волосы разметались по подушке. Умиротворяющая картина, если не знать, что пережила эта девочка. Опасность, угроза жизни для всей семьи, бегство из родной страны.
Она не спит, а находится в глубоком забытьи, состоянии, напоминающем кому. Не чувствует ни боль, ни холод, не ест и не пьет. Не просыпается уже много месяцев.
Эта девочка — одна из героев документального фильма «Я не справляюсь с жизнью» (Life overtakes me) о детях с синдромом отстраненности. О детях, которые не выдержали боли, выпавшей на долю их семей, не смогли вынести неопределенность и страх и на время сбежали. Уснули, словно Белоснежка и Спящая красавица. Чтобы проснуться потом, когда опасность минует.
Синдром отстраненности (англ. Resignation Syndrome, швед. Uppgivenhetssyndrom) — это редкое психогенное состояние, впервые зафиксированное в Швеции в конце 1990-х годов. Оно поражает преимущественно детей и подростков из семей беженцев, находящихся в процессе получения вида на жительство. Синдром проявляется как реакция на глубокую психологическую травму и ощущение безысходности, особенно в связи с угрозой депортации.
Как правило, синдром развивается постепенно. Дети замыкаются в себе, теряют интерес к окружающему миру, перестают говорить, есть и пить. А в тяжелых случаях впадают в состояние, напоминающее кому: ребенок лежит без движения, не реагирует на боль, не открывает глаза, не контролирует физиологические функции и нуждается в кормлении через зонд. Это выглядит так, словно дети теряют волю к жизни, решают сдаться. Иногда они находятся в таком состоянии в течение нескольких месяцев и даже лет. Приходят в себя, когда опасность оказывается позади. В случае беженцев это чаще всего — после положительного решения властей о выдаче вида на жительство.
Трудно поверить, что эта болезнь реальна, поэтому синдром отстраненности стал темой множества дискуссий. Проводились научные исследования и журналистские расследования, были написаны статьи и сняты документальные фильмы. Семьи, где есть дети с синдромом отстраненности, даже обвиняли в притворстве, использовании лекарств, вызывающих это состояние. Но никаких доказательств этому не было найдено.
Мы попросили клинического психолога Лию Хабарову рассказать о том, что вызывает синдром отстраненности, кто чаще всего становится его жертвой и как лечат это состояние.

Клинический психолог
«Синдром отстраненности — это довольно редкое психиатрическое состояние, которое чаще всего возникает у детей и проявляется в виде прогрессирующей социальной изоляции, нежелания заниматься обычными делами (игры, учеба, общение со сверстниками), может сопровождаться апатией и даже кататонией. Часто дети сопротивляются попыткам других поддержать или „растормошить“ их. Более того, по мере прогрессирования состояния ребенок может перестать разговаривать, принимать воду и пищу, подолгу оставаясь в постели. Самая серьезная стадия расстройства — когда ребенок входит в состояние глубокой абстиненции, находится без сознания или в коматозном состоянии.
Когда ребенок оказывается в ситуации вынужденной эмиграции, особенно связанной с войной, насилием или потерей дома, психика часто выбирает «замораживание» (реакция «замри») как способ выживания. В таких случаях может развиться «синдром отстраненности» — и важно знать, что это не каприз и не «характер», а реакция на глубокую психотравму. Можно сказать, что это состояние «спячки» в ответ на невыносимую реальность. Такие дети не реагируют даже на боль. Они вялые, с заторможенными рефлексами, не в состоянии обслуживать сами себя. При таком расстройстве очень важна качественная медицинская и психологическая помощь для ребенка и его семьи.
Синдром отстраненности не всегда сопровождается коматозным или кататоническим состоянием. Иногда ребенок как будто эмоционально и социально «выключается» из окружающей жизни, может выглядеть спокойным, «удобным», не требует внимания — но это «псевдоспокойствие», за которым стоит утрата контакта с собой и с миром.
— Психотравма: насилие, потеря близких, разрушение дома, свидетелями чего становятся дети.
— Резкое лишение опоры: языка, культурной среды, семьи, привычной рутины.
— Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), в детской форме — часто латентное.
— Хронический стресс без возможности «переварить» происходящее.
Согласно исследованиям, в основном от этого состояния страдают дети и подростки от 7 до 19 лет, чаще девочки. Эти дети, как правило, беженцы или представители этнических меньшинств. Причиной травмы часто становится физическое насилие, преследования или наблюдение за насилием и оскорблениями в семье. До развития синдрома у пострадавших детей нередко наблюдались такие черты личности как добросовестность и высокие достижения. Чаще таким синдромом страдают старшие дети в семье, которым необходимо нести ответственность за младших братьев и сестер.
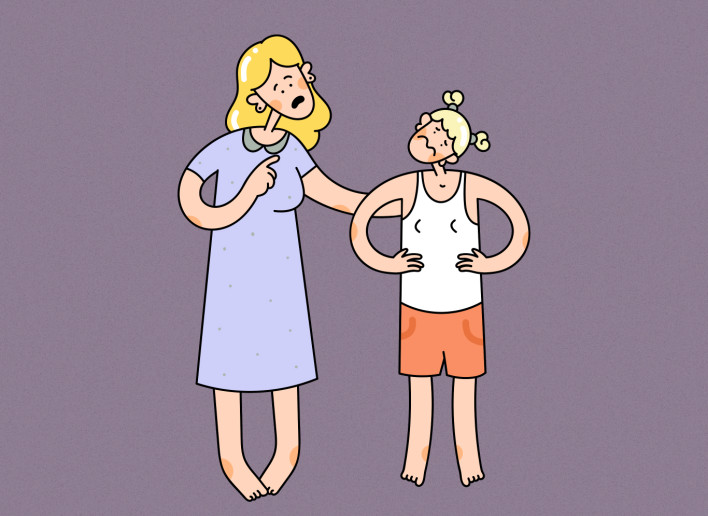
— Эмоциональная «плоскость»: ребенок не проявляет радости, грусти, страха.
— Минимум контакта глазами, бедная мимика.
— Отказ от общения, трудности с речью, молчание.
— Отстраненность от сверстников и взрослых.
— Игры однотипные, без сюжета, часто монотонные.
— Отсутствие инициативы, зависимости от указаний взрослых.
— «Стеклянный» или отсутствующий взгляд.
— Соматические жалобы: боли, проблемы с пищеварением, утомляемость.
В тяжелых случаях — кататония, коматозное состояние.
Важно не путать это состояние с аутизмом: оно имеет совершенно иную природу».

Синдром отстраненности — это неосознанный, крайне тяжелый психический и телесный «уход» от реальности, часто возникающий у детей, переживших травматический опыт, связанный с угрозой, которую они не могут ни понять, ни контролировать.
Хотя это не буквально «считывание» информации, можно сказать, что дети в таких условиях интуитивно улавливают настроение и страх родителей и ощущают бессилие взрослых, даже если сами не понимают деталей происходящего (например, юридических процессов, связанных с беженством). Часто эти дети не получают прямых словесных объяснений, но воспринимают тон, интонации, тревогу, молчание, страх.
Дети, особенно младшего возраста, обладают высокой чувствительностью к эмоциональному фону, не умеют фильтровать тревожную информацию. Также они пока не владеют механизмами саморегуляции и зависят от эмоциональной стабильности родителей. При этом они глубоко уязвимы и нуждаются в безопасности.
Если родители сами в отчаянии, они не могут дать ребенку чувство защищенности, и тогда ребенок «погружается» в себя, блокируя внешнюю реальность.
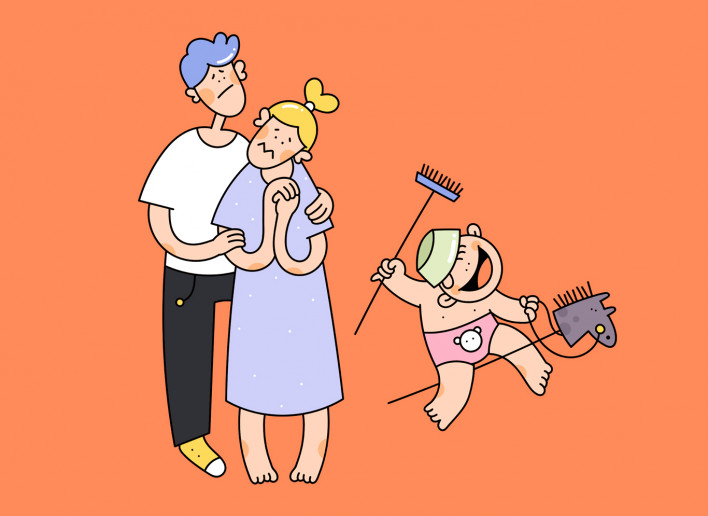
Реакции взрослых на страдания чаще рациональны или выражаются иначе:
— у них более развиты механизмы психологической защиты (вытеснение, отрицание, решение «держаться ради детей» и т. п.);
— психосоматика у взрослых может проявляться в виде депрессии, тревожных расстройств, бессонницы, болей, психосоматических заболеваний;
— однако у них меньше шансов «сдаться полностью» в детском смысле — взрослый редко полностью отключается от внешнего мира (хотя тяжелые депрессии могут напоминать это состояние).
Журналистка Рэйчел Авив в статье для издания «The New Yorker» приводит мнение главы института детской психиатрии в Стокгольме Магнуса Кильбома, который говорит о сходстве между состоянием «Muselmann», в которое впадали узники нацистских лагерей и современным синдромом отстраненности (Resignation Syndrome), наблюдаемым у детей-беженцев в Швеции.
Термин «Muselmann» (нем. Muselmann) использовался заключенными нацистских концентрационных лагерей, таких как Аушвиц, для обозначения узников, находящихся на грани смерти из-за крайнего истощения, физической слабости и утраты воли к жизни. Эти люди становились апатичными, безразличными к своему окружению и собственной судьбе, часто не реагировали на внешние раздражители и были неспособны к самообслуживанию. Физически они выглядели как «живые скелеты» с маскообразными лицами и остекленевшими глазами.
В обоих случаях люди, сталкиваясь с непреодолимыми обстоятельствами и ощущением полной беспомощности, утрачивают волю к жизни. Однако, как подчеркивает Авив, эти состояния имеют различную природу: «Muselmann» возникал в условиях физического истощения и жестокости лагерей, тогда как синдром отстраненности проявляется как психогенная реакция на травму и стресс.
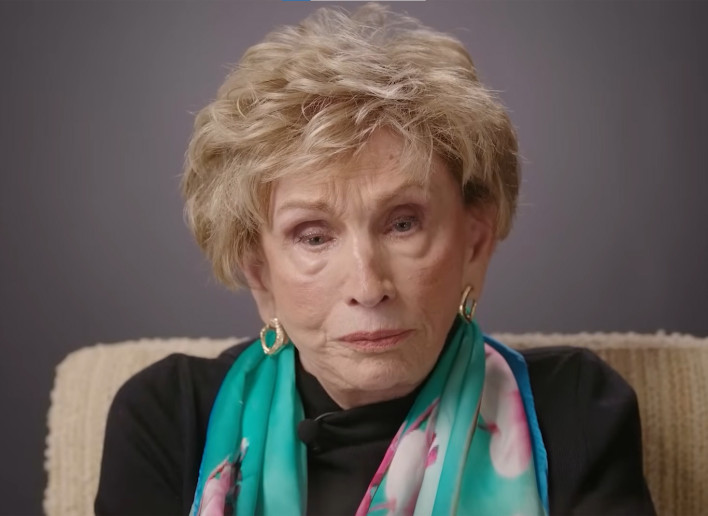
Слово «Muselmann» буквально переводится с немецкого как «мусульманин». Существует несколько теорий относительно его использования в лагерях:
— Некоторые исследователи считают, что термин возник из-за сходства позы истощенных узников с мусульманской молитвенной позой.
— Другие предполагают, что слово использовалось в переносном смысле для обозначения полного смирения и покорности судьбе.
Писатель Примо Леви, выживший в Аушвице, описывал «Muselmann» как «утопленников» — безмолвную массу «не-людей», в которых угасла «божественная искра». Он писал, что если бы ему нужно было выразить все зло эпохи в одном образе, он бы выбрал именно этот.
Философ Джорджо Агамбен рассматривал «Muselmann» как пример «голой жизни» — состояния, в котором человек утрачивает личность и становится объектом, лишенным прав и достоинства.
Состояние «Muselmann» не ограничивалось физическим истощением; оно также включало глубокую психологическую подавленность. Психиатрические исследования отмечают, что у таких заключенных происходил «психический слом», приводящий к полной утрате надежды и отказу от борьбы за жизнь. Иногда даже физически более истощенные узники могли выжить благодаря сохранению внутренней воли, в то время как другие, менее истощенные, но утратившие волю, быстро погибали.
Георгий — мальчик из Северной Осетии. В рекомендательном письме директор школы, в которой Георгий учился в Швеции, описал его как усердного, вежливого, благодарного.
В 2007 году его семья Георгия сбежала в Швецию от преследований на религиозной почве. В статусе беженцев им было отказано, так как власти посчитали, что доказательств угрозы преследования семьи в России недостаточно. В течение 6 лет они жили в стране нелегально.
В 2014 году родители Георгия решили попытать удачи еще раз и запросили разрешение на проживание в стране, ссылаясь на то, что депортация плохо скажется на психике ребенка. Они заручились рекомендательным письмом от директора школы. Но летом 2015 Георгий узнал, что семье снова отказали. Вскоре после этого депортировали друга Георгия с семьей (увезли «как преступников»), и это сломило мальчика. Он замкнулся, перестал разговаривать на русском языке.
В декабря 2015 года семья получила официальное письмо с отказом в предоставлении статуса беженцев и требованием покинуть Швецию в апреле. Георгий молча прочитал письмо, уронил его на пол, поднялся на второй этаж и лег в кровать. Позже он сказал, что почувствовал, словно его тело стало жидким, ему захотелось закрыть глаза. Было трудно даже глотать, возникло ощущение давления в глазах и голове. На следующее утро он отказался вставать.
За неделю мальчик потерял около 6 килограмм и его отвезли в больницу, где осмотрели, а на следующий день ввели назогастральный зонд и поставили диагноз: синдром отстраненности. Георгий стал «апатичным ребенком», как называют шведы детей в таком состоянии.
После того как его семья получила постоянный вид на жительство в Швеции в мае 2016 года, Георгий начал медленно возвращаться к жизни: сначала открыл глаза, затем начал есть и говорить, и в конечном итоге вернулся в школу.

Одним из главных вопросов, на который у ученых до сих пор нет четкого ответа — почему все это происходит в Швеции?
Несмотря на то, что похожие случаи были зафиксированы и в других странах (в лагерях беженцев на греческих островах после 2015 года, на острове Науру, где Австралия размещала беженцев, в 2018 году), подавляющее большинство случаев синдрома отрешенности наблюдается именно в Швеции.
Первые случаи стали регистрироваться в Швеции в начале 2000-х годов. Родители обращались к врачам в ужасе, им казалось, что их дети умирают или больны какой-то неизвестной болезнью.
По статистике, чаще всего страдают дети из этнических или религиозных меньшинств, таких как выходцы из бывшего СССР, Балкан, представители рома и уйгуры. Многие из них успевали до возникновения синдрома адаптироваться к жизни в Швеции, говорили на шведском языке и посещали школу.
В 70-х годах Швеция приняла больше беженцев на единицу населения, чем любая другая европейская страна. Но начиная с 2000 года политика в отношении беженцев стала меняться. Семьи из стран, которые не находились в состоянии войны, все чаще получали отказ в статусе.
В открытом письме Министру по вопросам миграции Швеции 42 шведских врача-психиатра заявляли, что новые ограничения и новые сроки, в течение которых рассматривались заявления, были причиной странной болезни. Семьи иногда находились в состоянии ожидания годами. Специалисты обвиняли шведское правительство в систематическом злоупотреблении по отношению к детям со стороны государства.
Шведы всегда гордились готовностью помочь слабым и уязвимым. Однако ситуация с впадающими в кататонию детьми не соответствовала принципам и ценностям страны в отношении беженцев. Изображения и съемки детей, которых в бессознательном состоянии загружали в самолеты и увозили их в опасную неизвестность, плохо сочетались с этой идеей. Одного из таких детей, депортированных в Сербию, шесть месяцев спустя нашли по-прежнему без сознания, в комнатушке в доме без водопровода.
Даже шведский монарх был обеспокоен, о чем и заявил в интервью в 2005 году. Шведы подписывали петиции в защиту «апатичных детей», пять из семи политических партий потребовали амнистии для семей в таких ситуациях. После чего семьям, дети которых страдали от синдрома отстраненности, стали выдавать разрешение остаться в Швеции.
В попытках выяснить причины возникновения синдрома шведское правительство отправляло исследователей в страны происхождения детей — Казахстан, Косово, Сербию, Азербайджан. Было выдвинуто предположение, что дети происходят из так называемых «холистических культур», в которых нет четкой границы между личным пространством индивидуума и коллективом. Предполагалось, что впадая в беспамятство, дети следуют негласным правилам и жертвуют собой ради семьи, даже если никто не просил их этого делать. Однако ответа, какое влияние на развитие болезни оказывает шведская культура, ученые не нашли.
Находясь в ситуации, когда окружающие не могут понять их травмы и страдания, беженцы часто переживают необычные психологические состояния. В 1980-х годах в США и Тайланде здоровые беженцы из Лаоса были «убиты кошмарами» — они ложились спать, кричали во сне и не просыпались. Также известен случай, когда 150 камбоджийских женщин, ставших свидетелями пыток при режиме Пола Пота, одновременно потеряли зрение.

Канадский философ Иэн Хэккинг говорит о том, что психиатрический диагноз может быть «способом личности ощущать и воспринимать себя». Он утверждает, что классификации в психиатрии могут влиять на то, как люди понимают и выражают свои переживания. Ведь концепция того, что мы называем психическим заболеванием, меняется со временем, адаптируется к историческим моментам.
Например, в 19 веке во Франции было распространено состояние, известное как фуга — внезапные путешествия с потерей памяти о собственной личности. Это расстройство исчезло, когда изменились социальные условия, поддерживающие его существование. Еще один пример — истерия, ранее считавшаяся женским расстройством. Женщинам ставили этот диагноз в тех случаях, когда они проявляли независимость, эмоциональность и вели себя не так, как того требовали социальные установки.
Это — один из самых поразительных моментов. Многие исследования показывают, что у детей:
— восстановление начинается довольно быстро после известия о разрешении ситуации (например, о предоставлении убежища);
— эмоциональное и физическое состояние резко улучшается, как будто организм больше не чувствует угрозы и «возвращается к жизни»;
— сам факт, что родители снова чувствуют контроль, снижает тревожный фон, что немедленно передается ребенку.

Наиболее эффективным методом «лечения» считается предоставление семье постоянного вида на жительство, что возвращает ребенку чувство безопасности. После этого дети постепенно начинают восстанавливаться: открывают глаза, начинают есть, говорить и двигаться. Однако не все случаи заканчиваются успешно. Некоторые дети остаются в состоянии отрешенности даже после депортации.

Клинический психолог
«1. Не настаивать на „разговоре“ или активности. Для начала необходимо обеспечить полностью безопасную среду для жизни ребенка.
2. Поддерживать рутину: одинаковое утро, еда, прогулки, все это создает предсказуемость, что важно для ребенка, пережившего тяжелую психологическую травму.
3. Никакой спешки. Не торопитесь сами и не торопите ребенка: иногда кажется, что «ничего не происходитÇ снаружи, но здесь идет важный процесс внутри.
4. Качественная медицинская и психологическая помощь. Очень важно искать ресурсы для восстановления ребенка.
Важно отметить, что это обратимое состояние, особенно если помощь оказывается своевременно. Необходима комплексная работа. Так, ребенку обязательно нужно чувствовать (особенно, если он находится в кататоническом состоянии), что угроза закончилась — внешняя и внутренняя. Очень важна роль устойчивого взрослого — врача, опекуна, волонтера, педагога, родителя (в тяжелых ситуациях, где психологическая травма касалась всей семьи или была связана с родителем, мать или отец могут не быть устойчивой фигурой для пострадавшего ребенка, и с ними вместе работают специалисты). Помимо медицинской помощи, показана психотерапия. Главное — работать последовательно, небольшими шагами, с уважением к темпу восстановления ребенка. «Включение» в жизнь должно быть постепенным и ненасильственным».
В 2021 году исследование, опубликованное в журнале European Child & Adolescent Psychiatry, показало, что восстановление детей с синдромом отстраненности может происходить даже без предоставления вида на жительство, особенно если они были временно отделены от семьи и получали специализированную помощь.