Иногда мы прячем новые вещи «для будущего» и откладываем радость на потом, но дети напоминают: счастье должно быть здесь и сейчас.
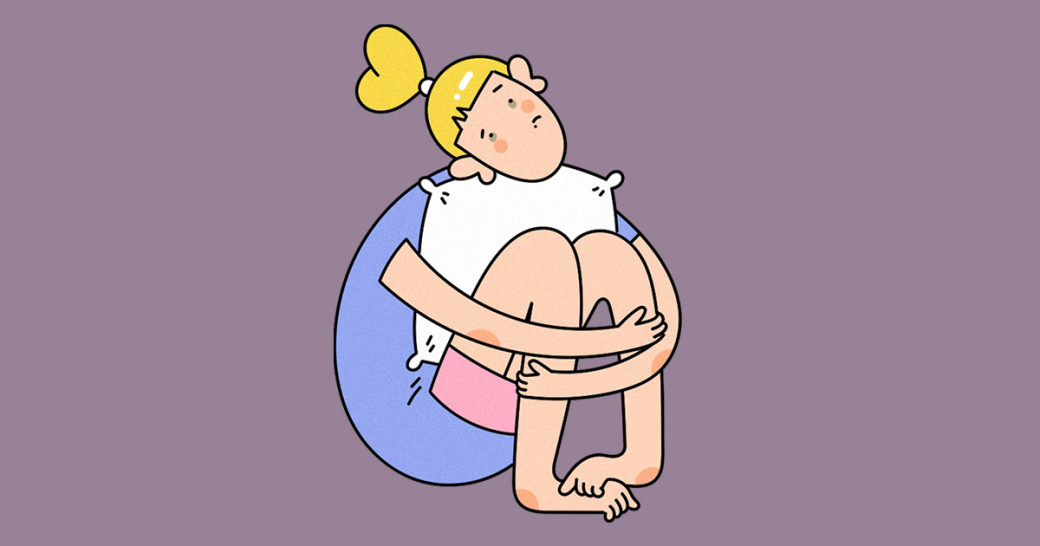
Моей дочери отдали новые туфли. Нет, это не самый короткий трогательный рассказ, приписываемый Хемингуэю. Туфли были на два размера больше, так что я разрешила дочери их примерить и покрасоваться, а потом положила в розовую коробку и убрала на верхнюю полку шкафа: через годик-полтора достанем.
Но дочери понравились и туфли, и процесс примерки — она стала просить, чтобы я вытащила коробку счастья и она могла играть с обновкой. А я отвечала «нет», сопротивляясь ее девчоночьему порыву: ну как, это же хорошие туфли, она их еще поносит, а сейчас вдруг испачкает, порвет!
Но моя дочь была по-трехлетнему настойчива и спросила меня: «Почему нельзя, мама?» И я задумалась: действительно, ведь туфли достались нам бесплатно, прямо сейчас мы не можем использовать их по назначению, но можем доставить радость своему ребенку и в качестве бонуса занять его на какое-то время. А к тому моменту, когда дочери понадобится обувь этого размера, мы поедем в магазин и купим новую пару, как все нормальные родители. И тогда я испугалась: неужели во мне говорит (а может, и шепчет по-голлумски) тот самый синдром отложенной жизни, от которого, как я думала, страдали только наши родители, но не мы?!
Из своего детства в девяностых помню, как в дальнем углу родительской спальни лежали грудой новые нераспакованные вещи: мебельная стенка цвета «темная вишня», софа с подушками — их плотную цветастую обивку я любила разглядывать сквозь дырочку в коричневой бумаге. И по мелочи: блестящий никелированный чайник, люстра с абажуром в виде лепестков, набор посуды… Почему все это стояло нераспакованным, прячась в запасниках семейного фонда? Эти красивые, любовно купленные вещи — атрибуты успешной жизни — ждали переезда на новую квартиру, которую мы вот-вот должны были получить. А пока наша семья обитала в старом доме, родители считали, что негоже пользоваться хорошими вещами в такой обстановке, и хранили их для будущих счастливых времен.
Поэтому мы годами жили в окружении разномастных потертых буфетов и шкафов, смотрели телевизор на ужасно скрипучем диване, который был старше меня, и ели из потускневших советских тарелок разными вилками. Что никак не способствовало приближению той самой счастливой будущей жизни.
В какой-то момент родители поняли, что новой квартиры не будет, и наступил день, когда было решено извлечь на свет божий заживо похороненные покупки. Только счастья и радости это уже никому не принесло. Наоборот, вещи напоминали о несбывшемся, об обманутых надеждах: и стенку папа собрал кое-как, и цветы на подушках софы, которыми я так любовалась, все время были закрыты одеялами и пледами. Никелированный чайник к тому времени утратил свою актуальность и скоро был заменен электрическим собратом.
Это самая запомнившаяся история из детства, но таких случаев было много. Подобное отношение распространялось и на меня: до сих пор помню свои недоумение и обиду, когда папа ругался за то, что мне хотелось поскорее заполнить дневник-анкету, который подруга подарила на день рождения. Тогда эти анкеты были у всех: покупные и самодельные, девочки их просто обожали — и оформлять свои, и заполнять чужие. Это был желанный подарок, очень красивый альбом с мелованной розовой бумагой и переплетом, крышки которого мягко пружинили. Мне не терпелось начать писать в нем самой и отдать подружкам, но папа считал, что такой подарок нельзя сразу начать использовать, и сердился на меня.
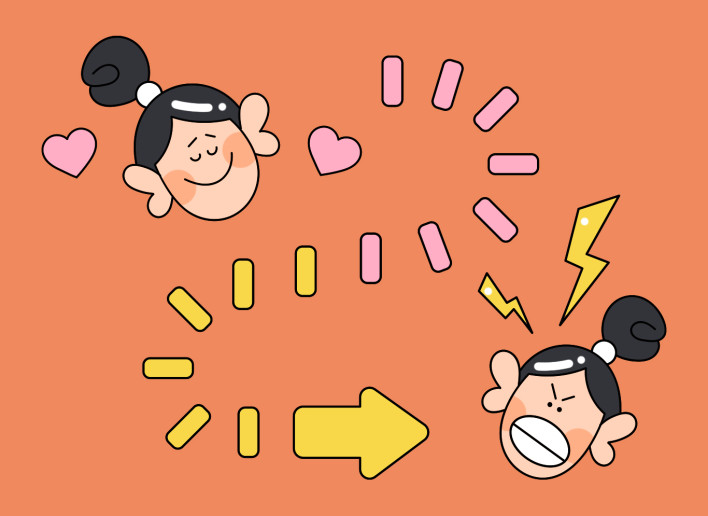
Нет, боюсь, я этого не спросила, потому что не была так настойчива в диалоге со взрослыми в свои десять лет, как моя дочь — в три.
В то время ни я, ни мои родители не знали, что такое поведение называется синдромом отложенной жизни и как оно портит эту самую жизнь — не отложенную, а ту, которая вот прямо сейчас. К сожалению, мой отец не был уникален в этом: многие признаются, что после смерти бабушек и родителей находят залежи вещей в упаковках и с бирками, порой еще с советских времен.
Но мы-то сейчас подкованные в теории: читаем психологический научпоп и комментарии в интернете, учимся на ошибках своих родителей, ходим на терапию. И вообще, мы же общество потребления — так потребляй и властвуй! Оказывается, что даже зная это и помня о детских ощущениях, я подсознательно часто действую по схеме своих родителей: запрещаю, откладываю, ужимаюсь — непонятно для чего. Я не могу объяснить этого себе, не то что своим детям.
Да, туфли — это, пожалуй, мелкий симптом, и вообще мы за разумное потребление. Но недавно я поняла, что повторилась ситуация с домом. Последние шесть лет мы снимали жилье, и в хаосе быта с тремя погодками ни я, ни муж не успевали думать о красоте наших интерьеров. Мы стихийно покупали в белую комнату ободранную черную полку с рук, потому что нам некуда было ставить новые книги. Переоборудовали пеленальный столик с двумя слоями наклеек под тумбу для проигрывателя. Купили сыну спартанскую некрашеную кровать в «Икее», потому что ее можно будет разделить на две, когда в гости приедет бабушка. Вместо двери в ванной комнате прикрутили занавеску, которая все время падала. Почему так? Мы тоже ждем новоселья и, конечно, уверены, что там все будет по-другому…
Но они — эти самые дети, на которых пока еще, к счастью, не навесили никакого ярлыка и не приписали им каких-то общих черт, — глаголят истину. Истину, которая заставляет меня подняться с метафорического, но довольно громко скрипящего дивана. Снова дочь: «Я хочу красивую комнату, как у моей подружки! И чтобы там все было розовое, и огоньки, и свой столик».
И я прихожу к ней в комнату — смотрю на стены новым взглядом и вижу всю «некрасивость», которая окружает ее с рождения. И понимаю: для нас с мужем первые шесть лет эмиграции без своего жилья — это всего лишь один из периодов в жизни, но для наших детей — это целая жизнь! И я не хочу, чтобы они с самого начала жили ее с ощущением, что красивое будет когда-то, но не сейчас…
Так что я выбрасываю тарелку со сколом, который не мешал никому есть из нее, но все время мозолил глаза, покупаю на ее место новую и пользуюсь. Я забираю на местном «Авито» розовый кукольный домик с огоньками — такой огромный, что он не помещается в багажнике моей трехрядки. Согнувшись до земли, опираясь голым коленом на шершавый асфальт, под светом фонарика на телефоне, я раскручиваю болты — хочу, чтобы моей дочери стало хотя бы чуть-чуть красивее. Не дожидаясь переезда в новый дом! Я смотрю на сына, который после празднования дня рождения обложился подарками, и мне хочется сказать ему: «Нет, не открывай сразу все Лего, подожди! А вот этот набор у тебя уже есть — давай отдадим его брату,» — но я пересиливаю себя, молчу, не лишаю его удовольствия. Может, это маленькие шаги, но я их сделала, чтобы мои дети могли пойти еще дальше.
После смерти папы, спустя много лет, я впервые привезла своих детей на место, где выросла. Старого дома, где все ждали и не дождались лучшей жизни, уже не было. На его месте торчали ломаные кирпичи остатков фундамента. Мои дети резво схватили молотки и ломы, оставшиеся от деда, которого они никогда не видели, и с радостью принялись за разрушение прошлого. Я смотрела, и у меня в глазах были слезы — настолько символичным был для меня этот жест, эта маленькая победа наслаждения жизнью здесь и сейчас против бессмысленной тряски над вещами.
А что туфли? Стоят на почетном месте, на нижней полке под платьями. Дочь наигралась вволю и оставила их в покое, так что они еще и в школу сходят!