
Мы собрали истории ВИЧ-положительных родителей о том, как они решились обсудить с детьми их статус, а также задали вопросы клинической психологине Елизавете Токаревой — она работает в фонде «Дети +», где помогает взрослым подобрать нужные слова.
За время существования ВИЧ в России родились 229 097 детей от матерей с вирусом иммунодефицита. Из них вирус выявили у 12 020 — такие цифры приводил Роспотребнадзор по состоянию на сентябрь 2021 года.
Ежегодно показатель новорожденных с вирусом иммунодефицита падает, поскольку современная антиретровирусная терапия позволяет снизить нагрузку вируса у рожениц до нулевой — это значит, что наличие инфекции не смогут обнаружить даже лабораторные анализы, и вирус невозможно передать другому человеку, что позволяет женщине выносить и родить абсолютно здоровых детей.
Для достижения такого результата ВИЧ-инфицированным приходится часто принимать большое число препаратов. Лекарства принимают, строго соблюдая график, составленный врачом-инфекционистом, ведь пропускать прием опасно из-за риска развития устойчивости вируса к лечению.
Сегодня фармацевтика стремится к удобству, понимая все риски из-за несоблюдения режима, поэтому помимо схем из нескольких таблеток, существуют и препараты, которые включают весь комплекс в одну таблетку, которую достаточно принимать раз в день. Это существенно облегчает жизнь людям с ВИЧ, поскольку позволяет им не привязывать свой ежедневное расписание под прием лекарств.

Интересное по теме
«Материнство повлияло на мою организованность в приеме препаратов»: монологи ВИЧ-положительных мам
Несмотря на выдающиеся результаты по борьбе с вирусом, дети с ВИЧ по-прежнему появляются на свет. Как отмечают специалисты фонда «Дети +», основная причина — неосведомленность женщин о своем статусе. Многие из них узнают о том, что инфицированы ВИЧ, уже во время беременности. Впрочем, если женщина в этом случае сразу начинает терапию, шанс родить ребенка без вируса иммунодефицита все равно есть.
Плюс, по действующему в России законодательству, роженицам с ВИЧ запрещают грудное вскармливание, так как передача вируса через молоко матери тоже возможна, хотя и крайне маловероятна в случае, если женщина достигла неопределяемой вирусной нагрузки.
Еще одна проблема — ВИЧ-диссидентство. Люди, отрицающие существование вируса иммунодефицита, считают СПИД результатом стечения обстоятельств.
ВИЧ-диссиденты сознательно отказываются от терапии, есть среди них и те, кто считают, что заболевание можно вылечить народными методами. Они довольно часто ищут поддержку в социальных сетях, где организовывают сообщества и обсуждают свои идеи. К сожалению, такой образ жизни ВИЧ-диссиденты распространяют и на своих детей, лишая их доступа к необходимым лекарствам.
Однако даже те родители, которые принимают таблетки, часто недостаточно осведомлены о ВИЧ, кроме того, в обществе бытует множество мифов относительно инфекции. Все это приводит к самостигме, а осознание того, что ребенок получил вирус от родителей, вызывает в них огромное чувство вины, которое не дает начать разговор о ВИЧ с детьми.
Они откладывают беседу на более поздний срок, находят предлоги, почему сейчас — неподходящее время, и в итоге решаются поговорить, когда дети уже вступают в переходный возраст, а то и достигают совершеннолетия. Психологи фонда «Дети+» рекомендуют раскрыть ребенку его диагноз не позже восьми-девяти лет, ведь подростковый кризис может существенно осложнить и без того непростую беседу.
Ольга, рассказала о ВИЧ, когда сыну было 13:
На сегодняшний день моему сыну уже 18 лет, до 11 лет он жил без терапии: семь лет назад терапию назначали только при наличии показаний, соответственно, неудобных вопросов о том, что за лекарства он принимает, не возникало. В 11 лет он сдал анализы, и выяснилось, что в его крови повысилась вирусная нагрузка. Врач назначил сиропы, на тот момент я внутренне еще не была готова обсуждать с ним ВИЧ, поэтому сказала ему, что это лекарство от лимфоденита.
Разговор об иммунодефиците у нас случился только через долгих полтора года: мне было очень страшно рассказать о положительном статусе из-за огромного чувства вины. Со мной никто из специалистов не работал, и я старалась перенести этот разговор как можно дальше. Сейчас я понимаю, что не стоило так тянуть, конечно.
В общем, после того, как он начал пить сироп, я успела провести у них в школе лекцию о ВИЧ, где сын получил первичные знания о вирусе иммунодефицита: мы подробно рассказываем и о течении заболевания, и о том, как оно появляется, и о стигме, существующей в обществе.
После этого я стала заниматься ВИЧ-активизмом, но на откровенный разговор по-прежнему не решалась. В этот период я мечтала, чтобы Витя (имя изменено по просьбе героев) познакомился с такими же ребятами. Вероятно, подсознательно я искала возможность разделить ответственность. Я постоянно пыталась в Центре СПИД с кем-то из родителей познакомиться, но они не шли на контакт.
А затем я узнала, что Фонд Светланы Изамбаевой организовывает слет детей с ВИЧ-инфекцией, но есть обязательное условие — ребенок должен знать о своем статусе. Я сразу же решилась ехать, и разговор дальше стало откладывать нельзя. Разговор мы начали с обсуждения людей, живущих с вирусом иммунодефицита, а потом я перешла к тому, что слет как раз для таких ребят. И Витя — один из них. Я ожидала любой реакции — от истерики до отвержения и даже ненависти, но сын просто сказал: «А, ну ок».
И по сей день я не сталкивалась ни с одним обвинением в свой адрес, сын встречается с ВИЧ-положительной девушкой, я привлекаю его к активизму, он даже помогал нам снимать социальные ролики».
Светлана, рассказала сыну о ВИЧ, когда ему было девять лет
Почти десять лет я жила с ВИЧ-инфекцией в своей «коробочке»: максимально замкнуто, о статусе знали даже не все родственники. Тема ВИЧ в нашей семье была под запретом, но, когда ребенку было лет девять-десять, я поняла, что пришла пора поговорить о том, что у него есть вирус иммунодефицита, потому что слышала, что психологи рекомендуют этот возраст как самый гибкий для восприятия.
Перед разговором я готовилась: искала информацию в интернете о том, как это правильно сделать, читала психологов и пыталась найти родителей, которые так же, как и я, решились на раскрытие статуса. Мне было очень важно найти равных себе, поскольку в Центре СПИД по месту жительства таких не было и мне не могли рекомендовать кого-то, с кем я бы могла проконсультироваться.
В интернете я наткнулась на Фонд Светланы Изамбаевой и написала ей. Она меня очень поддержала, как выяснилось, у нее большой опыт подготовки родителей. Помимо личной консультации, она дала мне контакты родителей, которые уже проходили этот этап. Благодаря их поддержке и опыту я решилась.
Во время разговора я очень плакала, ребенок даже решил, что у нас кто-то умер. Я ответила, что все живы, но у нас ВИЧ, на что он сказал что-то вроде: «О, господи, ВИЧ так ВИЧ, главное, что все живы». Я спрашивала у него, знает ли он, что такое вирус иммунодефицита. Сын ответил, что слышал что-то, но ему казалось, что «это когда клещи кусают». Я вкратце объяснила ему, что это такое и для чего мы пьем таблетки. Он с детства принимал АРВТ, раньше я говорила ему, что это необходимо для того, чтобы мы были здоровы. В целом, от моего рассказа в его картине мира ничего кардинально не переменилось.
Тема ВИЧ окружена множеством мифов и опасений, большая часть из них — в головах взрослых, которые выросли на публикациях, которые уверяли, что ВИЧ — чума XX века. Им кажется, что новость о диагнозе может травмировать ребенка и приведет к депрессии или развитию тревожного расстройства. Параллельно они испытывают сильное чувство вины и опасаются, что сын или дочь, узнав о статусе, замкнется и прекратит общаться с семьей.
Другие опасаются, что ребенок, наоборот, не сумеет правильно оценить ситуацию и начнет всем подряд сообщать о том, что у него ВИЧ, из-за чего может столкнуться со стигмой в школе или во дворе, ведь стигма вокруг заболевания по-прежнему высока. Особенно дискриминация ощутима в небольших городах и селах.
Поэтому перед тем, как обсуждать диагноз с ребенком, родителям необходимо встретиться с психологом и проработать страхи и мифы, которые сформировались в их голове относительно заболевания. Возможно, на встречах со специалистом потребуется стабилизировать состояние самих взрослых, восполнить пробелы, которые могут у них существовать относительно актуальной информации о вирусе иммунодефицита.
В этой ситуации применимо правило: «Сначала маску на себя, потом — на ребенка».
Если эмоциональное состояние родителя будет нестабильно, то дети тоже могут «заразиться» нервозностью: к процессу раскрытия важно подходить постепенно, с использованием дружественных детям методов: важно быть честным, искренне отвечать на все возникающие по ходу беседы вопросы и сообщать актуальную возрасту информацию.
Если ребенок совсем маленький, то нужно объяснить, что лекарства необходимо принимать, чтобы сохранить здоровье, затем в игровой форме рассказать об иммунитете и дать понять, что терапия призвана укрепить и приумножить естественную защиту организма, чтобы его не атаковали различные инфекции.
Детям в возрасте семи-девяти лет можно рассказать о вирусах и многообразии хронических заболеваний, которые требуют регулярной медикаментозной поддержки, объяснить механизм действия ВИЧ-инфекции на иммунитет, не называя само заболевание, и то, как терапия противодействует размножению вируса. В семь-девять лет важно убедиться, что ребенок умеет хранить тайну.
Важно не просто заставлять ребенка пить таблетки под угрозой смерти, а объяснить их действие и упомянуть, что заболевание не мешает строить семью, рожать здоровых детей и быть успешными в профессии. Необходимо особенно подчеркнуть, что вирус безопасен в бытовой сфере, озвучить, что он передается через кровь, и в случае порезов или ран важно быть аккуратным.
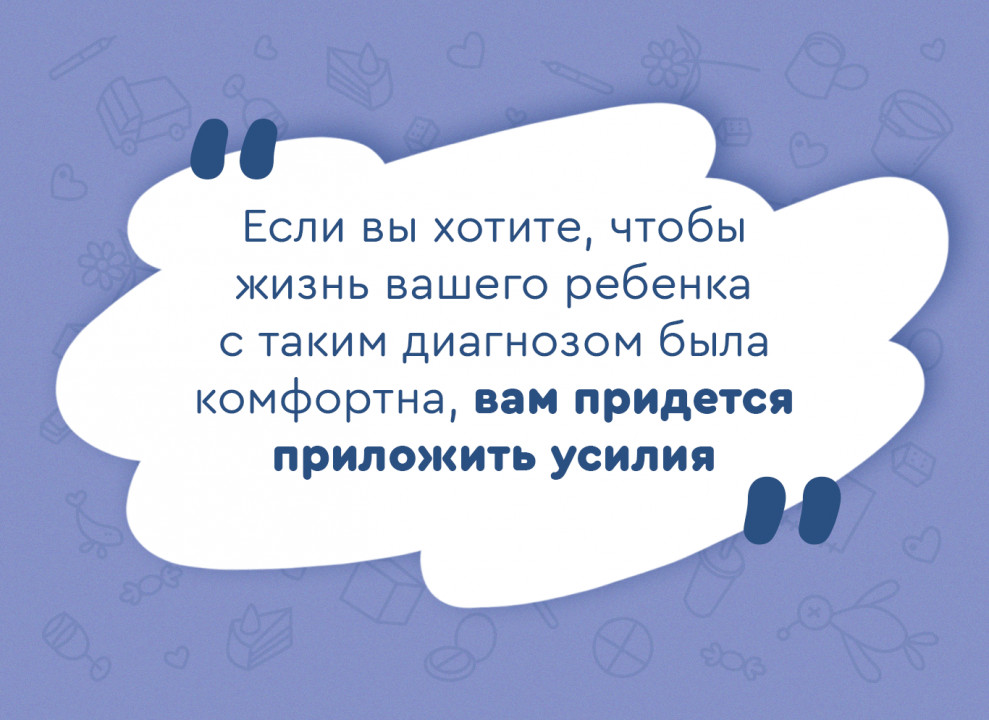
Интересное по теме
«Педиатры сделали мне справки, что это таблетки от аллергии»: истории родителей, которые воспитывают ВИЧ-положительных детей
Если вы видите, что ребенок адаптировался к информации, эмоционально стабилен, и не переживает каких-то дополнительных кризисов, не связанных со здоровьем, можно полностью озвучить диагноз, объяснить, с кем можно и нельзя обсуждать свой статус и более подробно рассказать о способах передачи вирусы. Лучше сказать об этом до наступления пубертатного периода. Как правило, средний возраст, в котором родители говорят ребенку — 10–12 лет, но каждый случай индивидуален: все зависит от того, умеет ли ребенок хранить тайну, насколько развиты его когнитивные способности, насколько он эмоционально стабилен. При стабильном взрослом, готовым открыто и честно говорить о болезни, дети воспринимают информацию о диагнозе спокойно.
Специалисты благотворительного фонда «Дети+» разработали сказку «Капельки здоровья», в которой в игровом формате объясняется механизм действия АРВТ-терапии, там же можно обсудить с ребенком, кому можно говорить о диагнозе, а кому — не стоит. В разделе доступна электронная рабочая тетрадь, где можно закрепить информацию. Сказка доступна на сайте фонда.
Процесс раскрытия диагноза индивидуален для каждой семьи. Задача специалиста — научить семью говорить о болезни, сделать эту тему открытой внутри семьи. Чем лучше детско-родительские отношения, тем безболезненнее пройдет этот процесс. Иногда родителям достаточно проконсультироваться с психологом, обсудить, на чем сделать акценты при разговоре с ребенком у специалиста.
Главное, чтобы процесс раскрытия ВИЧ-статуса был постепенным и мягким, возможно, с перерывом во времени, чтобы ребенок мог усвоить информацию. Помощь психолога можно получить как очно, так и онлайн в фонде «Дети+».
