Рустам Бексултанов
Психиатр сети клиник docmed и docdeti
История Оли с комментарием психиатра.
Оля была болезненным домашним ребенком, она отлично училась в школе и много времени уделяла занятиям музыкой. При этом с ранних классов ее жестоко буллили сверстники, а от родителей девочка не получала поддержки — только критику и эмоциональное насилие. В результате в 22 года Оля оказалась у психиатра с тяжелой депрессией, а спустя несколько лет узнала, что у нее комплексное посттравматическое стрессовое расстройство (кПТСР), развившееся в результате тяжелого детского опыта.
Оля поделилась своей историей с НЭН. А что такое кПТСР, нам рассказал психиатр сети клиник docmed и docdeti Рустам Бексултанов.

Психиатр сети клиник docmed и docdeti
Когда Ольге было 22, ее стали волновать боли в спине. Она пошла по врачам — невролог, остеопат, массажист. Причину найти не могли, избавить девушку от болей — тоже. Наконец один из специалистов дал Ольге тест на депрессию — по шкале Бека у нее было 20 баллов (выраженная депрессия средней тяжести). Врач назначил Ольге антидепрессанты и посоветовал обратиться к психиатру, дал контакты. Очереди к востребованному врачу пришлось ждать два месяца. Когда Ольга пришла на прием, по Беку было уже 40. Поменяли лечение, но спустя несколько месяцев тест выдавал результат в 60 баллов, у Ольги появились суицидальные намерения. Ее на месяц положили в психиатрическую больницу.
Когда состояние девушки стабилизировалось, она вернулась домой, продолжила ходить к психиатру. «За два года мы сменили много препаратов. На какое-то время становилось легче, потом опять хуже, волнами, — рассказывает Ольга. — Через два года врач предположила, что у меня не только рецидивирующая депрессия, но и пограничное расстройство личности. Мы перепробовали всю фармакологию, включая нейролептики. В некоторые периоды я принимала по четыре препарата в день». Помимо психиатра, Ольга два года регулярно посещала психотерапевта, но значимых улучшений не чувствовала.
А в этому году психиатр, снова сопоставив все факты и исследовав анамнез, поставила Ольге новый диагноз — комплексное посттравматическое стрессовое расстройство (кПТСР).
«Мы шесть лет лечили не то. Понятно, что при моем расстройстве таблетки далеко не друзья, и понятно, почему они не помогали. Мне дорога в долгую психотерапию. Все начало вставать на свои места», — объясняет Ольга.
Комплексная травма (КПТСР) — это хроническое стрессовое расстройство, развивающееся в ответ на длительные, повторяющиеся травматические события (обычно межличностные) в отличие от «обычного» ПТСР, которое чаще связано с единичной экстремальной ситуацией. Иными словами, кПТСР формируется, когда человек длительное время находится в атмосфере травмы — например, в условиях насилия, плена или жестокого обращения, — и эта травматизация подтачивает его личность. КПТСР можно условно назвать «травмой длительного насилия».
Идея выделить кПТСР возникла еще в 1990-х годах, когда профессор психиатрии Гарвардской медицинской школы Джудит Герман ввела новый термин CPTSD (Complex post-traumatic stress disorder). Она отметила, что некоторые пациенты с длительной историей травматизации демонстрируют более широкие нарушения, чем описано в критериях ПТСР. Признание того, что длительное бытовое насилие может приводить к особому комплексу симптомов, послужило причиной введения отдельного диагноза кПТСР.
Однако эксперты ВОЗ согласились внести отдельный диагноз Complex PTSD (CPTSD) лишь в ходе подготовки 11-го пересмотра Международной классификации болезней (МКБ-11). В 2018 году кПТСР был включен в МКБ-11 как самостоятельное расстройство. В России же этот диагноз до сих пор официально не ставят, потому что наша страна не перешла на МКБ-11. В российской психиатрической практике используется МКБ-10, где диагноза «комплексное посттравматическое расстройство» нет.
Теоретически частично похожее состояние отражено в МКБ-10 под названием «стойкое изменение личности после катастрофы» (F62.0), но этот код применялся редко и не охватывал всей проблематики комплексной травмы, особенно у детей и подростков. Переход России на МКБ-11 был намечен, но приостановлен в 2024 году.
На практике осведомленные специалисты нередко распознают комплексную травму у пациентов. К сожалению, отсутствие официального статуса приводит и к тому, что некоторые врачи вовсе отрицают существование кПТСР или путают его с другими расстройствами.
Получив новый диагноз, Ольга наконец нашла объяснение проявлениям, которые ее беспокоили: постоянное чувство вины, одиночество, ненависть к себе вкупе с заоблачным перфекционизмом, сложности в построении отношений и мнительность, агорафобия, реактивное поведение, отсылки к прошлому.
«Еще у меня большие провалы в памяти, — делится Ольга. — Как я понимаю, это защитные реакции: у меня много травматичных факторов. А о многих из них я, возможно, даже не помню. Постоянно каша в голове: я не должна была рождаться, я ничтожна, я никчемна. Депрессивная и суицидальная жвачка, которая никак не уходит из головы. Очень много триггеров, которые к этому возвращают».
Ольга говорит, что доверяет своему психиатру и понимает, почему корректный диагноз удалось поставить не сразу: все эти годы она действительно демонстрировала яркую депрессивную симптоматику. Вероятно, сложности с диагностикой заключались еще и в том, что в России врачи до сих пор обязаны работать по МКБ-10 (Международная классификация болезней десятого пересмотра), в которой диагноза «кПТСР» попросту нет.


Психиатр сети клиник docmed и docdeti
КПТСР характеризуется более широким спектром симптомов, чем классическое посттравматическое расстройство, — кПТСР отражает как посттравматические симптомы, так и изменения личности, возникшие вследствие затяжного травмирующего опыта.
У разных людей набор симптомов кПТСР может отличаться. В одном случае превалирует депрессия и замкнутость, в другом — вспышки гнева и рискованное поведение, в третьем — тяжелая тревога. Эти проявления могут сохраняться многие годы и десятилетия, особенно без лечения.
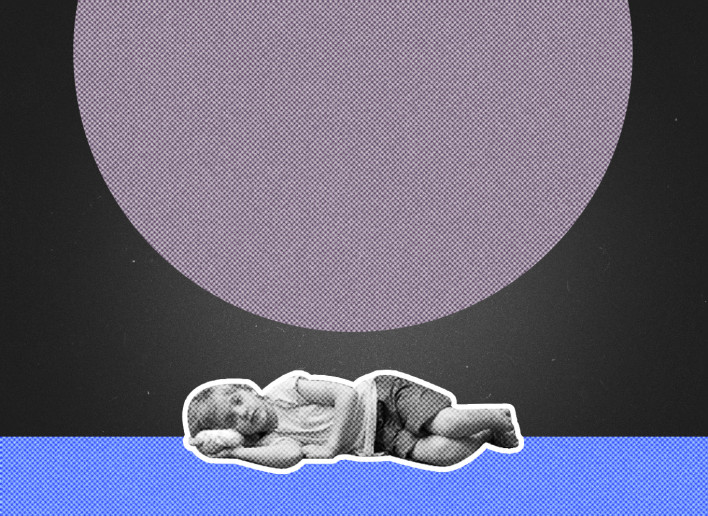
Теперь в терапии Ольга стала работать именно с симптомами кПТСР. Они со специалисткой обсуждали и опыт, который привел к травме.
У Ольги было непростое детство. Она родилась с дефектами развития, была болезненным ребенком. Мама постоянно ставила ей в вину, что ею постоянно приходится заниматься, с ней приходится мотаться по больницам.
У родителей брак не сложился, но они до Ольгиных 23 лет жили вместе — с постоянными скандалами и страшной руганью. Когда Оле было десять, отец у нее на глазах сильно избил мамину дочь от прошлого брака.
«После этого я боялась спать. Год ходила к психологу с тревожно-фобическим расстройством», — говорит она. Ее жизнью отец вообще не интересовался.
В школе Ольга столкнулась с буллингом, и началось все с младших классов. Перед поступлением в школу девочка на лето поехала на дачу к бабушке и подхватила вшей. Ее длинные, ниже попы, волосы обстригли под ежика.
«А дети злые. Они издевались надо мной из-за прически. Даже в женский туалет не пускали», — вспоминает она.
С маленького возраста Оля ходила в очках, донашивала одежду за старшей сестрой, была отличницей — в общем, непопулярной девочкой. Над ней смеялись ребята во дворе и даже избивали ее.
«Как-то один мальчик хотел меня напугать и, подъехав на велосипеде, сбил меня. Я упала на „розочку“ от бутылки и сломала руку, у меня шрам до сих пор», — вспоминает она. Обратиться за поддержкой Оле было не к кому.
Еще из травмирующего в детстве — музыкальная школа. Олю отдали туда в пять лет.
«У мамы были очень большие амбиции. Ее старшая дочь уже была „потеряна“ в этом смысле, а вот я как раз под рукой, — рассуждает Ольга. — Я была ее проектом, ей нужно было воспитать во мне умненького ангелочка. Она перестаралась».
Оля была проектом не только мамы, но и учительницы по фортепиано. Обе делали на девочку большие ставки: пойдешь в консерваторию! То, что Оле эта консерватория вообще не сдалась, никого не волновало.
«В музыкалке нужно было восемь лет учиться. На шестом году я попросила: „Отпустите меня!“ — „Нет, ты доучишься“. Я совмещала музыкальную школу с общеобразовательной, — говорит Ольга. — Ты приходишь из школы — тебя на четыре часа сажают за фортепиано. В выходные ты целыми днями сидишь за фортепиано. Не было такого, чтобы я после школы просто пошла гулять. У меня не было детства». После выпуска Оля ни разу не садилась за инструмент.
В подростковом возрасте снова дала о себе знать болезненность. У Ольги дисплазия соединительной ткани, в 14 лет она сильно выросла. Как-то шла по улице, неудачно упала и сломала бедро, раздробила колено. Тяжелая операция, долгое и сложное восстановление. Она год заново училась ходить, перешла на домашнее обучение. Вернувшись в прежний класс, не влилась.
Пока Оля ходила в гипсе, она набрала вес. Отец как-то бросил комментарий: «Ты жирная, тебе надо худеть». «Я эти слова приняла очень близко к сердцу и перестала есть. У меня была нервная анорексия. При росте 173 сантиметра я с 70 килограммов за три месяца похудела до 43. Мама этот факт игнорировала», — вспоминает Оля. Зато забили тревогу учителя в школе, потому что у нее «торчали суставы». На восстановление функций организма, в том числе менструального цикла и работы щитовидной железы, ушло четыре года.
«Тогда я с этим к психиатру не ходила, — вспоминает Ольга. — Но уже поступила на медицинский и могла вникнуть в суть проблемы. Как-то пришла к гинекологу, и она на пальцах мне объяснила, что меня ждет, если я еще пару килограммов скину. Я стала есть, но при этом начала жестко заниматься спортом, что вылилось в спортивную булимию: еда должна куда-то деваться. РПП у меня до сих пор».


Психиатр сети клиник docmed и docdeti
КПТСР возникает от травматических событий, которые носят повторяющийся или длительный характер. Важный фактор — беспомощность пострадавшего: когда травмирующие эпизоды повторяются, а человек не имеет возможности избежать их или контролировать ситуацию, это постепенно «подрывает» психику.
Типичные ситуации, приводящие к комплексной травме:
Главное в КПТСР — регулярность и продолжительность травмирующийх факторов. Даже относительно незаметные эпизоды, если они повторяются годами, суммарно могут оказать такое же воздействие, как и явное чрезвычайное событие. В итоге психика оказывается истощена хроническим стрессом, формируя описанные выше симптомы.

Сразу после школы Ольга пошла в медицинский. Изначально хотела стать психиатром. Но со второго курса решила выучиться на врача-патологоанатома.
В университетской группе ей повезло встретить свою любовь. Они вместе уже семь лет, с третьего курса.
«Он меня очень поддерживает, без него меня, наверное, уже бы не было, — делится Оля. — Мы вместе все это проходим. Его любовь и поддержка — огромная отдушина для меня».
Отношения с родителями Оля не разорвала — маму даже устроила в то же медучреждение, где работает сама (хотя уже жалеет об этом). Но близких отношений ни с кем из них у Оли нет.
«Мать ведет себя со мной как с маленьким ребенком. Она меня не слушает и не слышит. Она не понимает, что я болею и что она сделала огромный вклад в эту проблему. Меня это сильно триггерит», — рассказывает Оля. С самой матерью она это не обсуждала, но, вероятно, через какое-то время будет готова. «Мама — человек советского воспитания, ей скоро 60, — добавляет Оля. — Такие люди не меняются, и вряд ли она сможет понять. Но хотелось бы, чтобы она научилась слушать. Понимания хочется».
С отцом Ольга встречается несколько раз в год на семейных праздниках. И он каждый раз изъявляет желание видеться чаще, но дочь его идею не поддерживает:
«Я не понимаю, о чем с ним разговаривать. Он мне каждый раз говорит: „Ну что ты там, трупы вскрываешь?“ Но моя работа заключается не только в том, чтобы трупы вскрывать! Я не могу до него это донести уже пять лет. Для меня это биологический отец, не более».
Отцу Ольга как-то сказала, что его комментарий по поводу ее веса в подростковом возрасте нанес ей сильный вред. «Ну, а что я такого сказал? Я ж правду сказал. Женщина не должна быть толстой, женщина должна быть привлекательной для мужчины», — ответил он.
«Важно, чтобы родители умели слушать своего ребенка. Давать ему свое пространство, слушать и слышать его. Захотел на один кружок, походил, разонравилось — можно и на другой отдать. Ребенок ищет себя, всесторонне развивается, это хорошо, — делится Оля своими размышлениями. — И еще важное: когда ты заводишь ребенка, это ТЫ заводишь ребенка, это твое желание и твоя ответственность, он не повинен в том, что ты в какой-то момент захотела его завести. И не надо на нем срываться за это и винить его в этом».
Сейчас Оля продолжает заниматься с психотерапевтом, постановка корректного диагноза помогла им добиться прогресса, наметить дальнейшие шаги и, главное, ощутить надежду.
«Раньше не было понимания. Подбирали, подбирали таблетки, ничего не менялось, — было ощущение, что мне никогда не станет лучше, я чувствовала истощение, — говорит Ольга. — Теперь мы встречаемся каждую неделю, углубляемся в мой опыт и переживания. Это тяжелый процесс, но я стараюсь. Хочется вылезать из этого. Да, все равно плохо, но появился проблеск, что это можно вылечить. Непонятно, сколько на это уйдет времени, но с этим можно справиться».
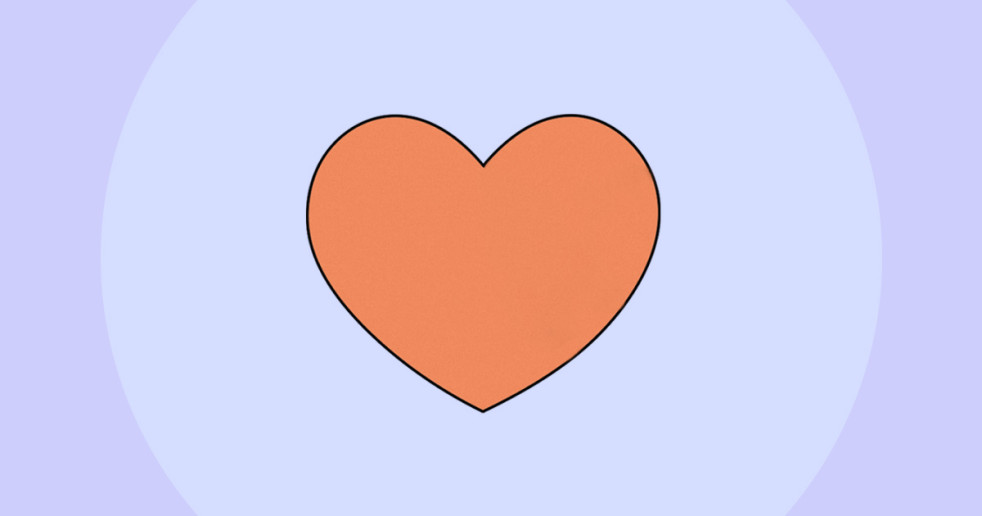

Психиатр сети клиник docmed и docdeti
Лечение кПТСР требует комплексного подхода — обычно это сочетание психотерапии и, при необходимости, медикаментов. В лечении, как правило, участвуют психиатр и психотерапевт/психолог. Психиатр ставит диагноз и назначает медикаменты (если они нужны).
Лекарства помогают справиться с некоторыми симптомами — снизить выраженность тревоги, депрессии, стабилизировать настроение, нормализовать сон. При этом медикаменты не «стирают» травматические воспоминания и не учат человека новым навыкам
Так что основа лечения кПТСР — длительная психотерапия, направленная на работу с травматическими воспоминаниями, эмоциональной сферой, самовосприятием человека. Важно найти специалиста, который понимает природу комплексной травмы и имеет опыт работы с ней. Лучшие результаты при кПТСР показывают когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) с экспозицией, EMDR (метод десенсибилизации и переработки движениями глаз), схема-терапия для проработки глубинных паттернов, диалектическая поведенческая терапия (DBT) для развития эмоциональной регуляции.
Частичное облегчение возможно сравнительно быстро: иногда интенсивные кошмары и флешбэки удается значительно уменьшить за несколько недель или месяцев работы. Но глубинные изменения — восстановление чувства безопасности, базового доверия, перестройка негативного «образа Я» — обычно требуют более длительного времени — в среднем два–три года регулярных сессий. В тяжелых случаях (например, если травма началась с раннего детства и длилась десятилетие) терапия может растянуться и на гораздо больший срок. Многое зависит от мотивации и ресурсов самого человека — насколько он готов открывать тяжелые воспоминания, доверять терапевту, выполнять домашние задания.
В результате травматический опыт перестает «отравлять» настоящее, а человек возвращает утраченные навыки саморегуляции, доверия и нормальной эмоциональной жизни. Уменьшается интенсивность стыда и самоуничижения, человек начинает относиться к себе с большим состраданием, понимать, что вина не на нем. Впервые налаживаются или формируются здоровые отношения — с близкими, друзьями, партнерами — где есть доверие и взаимное уважение. Конечно, жизнь не становится безоблачной, но способность справляться со стрессом возрастает многократно. Хотя путь и непростой, комплексная травма поддается терапии — особенно если человек получил поддержку и не один на один борется с последствиями.

Хочу успокоить родителей: единичные ошибки — резкое слово или ошибка в воспитании — и бытовые стрессы не приводят к кПТСР. Комплексная травма формируется только при серьезном и систематическом неблагополучии.
Если вы любите своего ребенка, заботитесь о нем и стараетесь быть хорошим родителем — уже этого достаточно, чтобы вероятность кПТСР была крайне мала. Как метко заметили в одном сообществе: «Если вы волнуетесь, не травмируете ли вы ребенка, то сам этот факт значит, что вы вряд ли его травмируете». Люди, которые действительно калечат детскую психику, обычно не задумываются об этом или делают это сознательно.
Комплексная травма у детей возникает почти всегда там, где происходит насилие, эксплуатация или крайнее пренебрежение. Обычные неблагополучия вроде развода, бедности или строгого воспитания сами по себе кПТСР не вызывают, особенно если рядом есть любящий заботливый взрослый. Каждый родитель, отказавшийся от ремня и выбравший диалог, делает мир лучше и безопаснее для своего ребенка. Если вы читаете эту статью и беспокоитесь о психологическом благополучии вашего ребенка– вы, вероятно, уже делаете все правильно. Ваше внимание и любовь — лучший щит против комплексной травмы. Не забывайте об этом и берегите себя и своих близких.